Особенность образа лауры. Беатриче, Лаура, Лара: прощание с проводницей
Статья посвящена трем женским образам - Беатриче, Лауре, Симонетте. Они неразрывно слиты с Флоренцией и выдающимися создателями универсального мифа о ней - Данте, Петраркой, Боттичелли. Для автора «Божественной комедии» его муза - недосягаемая мечта, воплощение духовности, для создателя сонетов и канцон его вдохновительница не только возлюбленная, но и символ поэзии, для прославленного придворного художника прототип героинь на его полотнах не столько идеал, сколько прекрасная земная женщина, ни в чем не уступающая богиням.
Images of great florentines" muses as presented in the russian literature of the 19-20th centuries (Beatrice, Laura, Si.pdf Универсальный миф о Флоренции включает в себя первичные мотивы камня, сада, цветка, цвета и вторичные мотивы прошлого, круга, башни. Его создателями были выдающиеся флорентийцы. Впоследствии факты их биографии и их творения послужили основой для возникновения персональных мифов. Среди них особое внимание привлекают те, которые посвящены Данте, Петрарке и Боттичелли. Этих людей невозможно себе представить без их вдохновительниц, муз -Беатриче Портинари (1266-1290), Лауры де Нов (1308-1348) и Симонетты Веспуччи (1453-1476). Каждая из них озаряет один из трех веков флорентийского искусства. В XIII столетии родилась возлюбленная Данте, которую нельзя рассматривать в отрыве от его биографии и творчества. В интерпретации русских авторов их история совершенно отчетливо противопоставляется истории Паоло и Франчески в «Божественной комедии». При всем том, что обе они реально бывшие, статус литературной закрепляется за той, что посвящена Паоло и Франческе, а история Данте и Беатриче оказывается все-таки биографической по своей сути. Получается, что это - два крайних варианта любовных взаимоотношений, которые могут быть сближены только за счет несчастливого характера их развязки. Сочувствие к страданиям литературных героев у русских писателей соседствует с ироническим или скептическим отношением к реальным людям и литературным персонажам - к Данте и Беатриче. В письмах А.И. Герцена 1832-1838 гг. оба имени часто упоминаются вместе. Автор стремится подменить свою неблагополучную жизненную ситуацию флорентийской благополучной биографической и литературной ситуацией, как ему представляется. Восторженное состояние, в котором пребывает Герцен, порождает у потенциального читателя сомнения в жизнеспособности его мечтаний и житейски обоснованный скепсис. В послании Н.А. Захарьиной от 24 июля 1835 г. из Вятки Герцен уподобил ее музе автора «Божественной комедии»: «Твой образ, как образ Дантовой Беатриче, заставляет стыдиться моей ничтожности» . Захарьина-Беатриче возникает в письме от 12 февраля 1836 г. из Вятки: «Так слетала к Данту его Беатриче из рая в виде ангела, чтоб вывести его из обители скорби бесконечной туда, в обитель радости. О Наташа, ты такой же ангел!» . В послании от 29 сентября 1836 г. из Вятки Беатриче-Захарьина соседствует с Вергилием-Огаревым: «Когда Данте терялся в обыкновенной жизни, ему явился Виргилий и рядом бедствий повел его в чистилище; там слетела Беатриче и повела его в рай. Вот моя история, вот Огарев и ты » . Герцен совершенно отчетливо уподобляет себя Данте, его трагедию - своей трагедии, его возлюбленную - своей возлюбленной, причем делает это как под влиянием биографии флорентийского поэта, так и под воздействием его «Божественной комедии». Н.А. Некрасов в «Современных заметках» (1847) в пересказе повести Т.Ч. (А.Я. Марченко) иронически передает историю отношений Данте и Беатриче. Критику, по всей видимости, импонировал подход, позволяющий разоблачить псевдолюбовное начало во взаимоотношениях персонажей этого женского произведения. Его героиня уподобляет себя мужчине, ее женская психология подменяется мужской. Гипертрофированность платонической составляющей любовного чувства вызывает отторжение как у автора статьи, так и у возможного читателя. В первой части повести героиня вспоминает: «Я его любила, как Дант любил Беатрису, - с другой любовью я не могу сравнить этого чувства. Мне дорог был час, в который я знала, что увижу его; для него я умела быть снисходительной, моя воля, прихотливая и порой упорная, гнулась, приноравливалась к его прихотям, я мучила себя, изобретая средства нравиться, и приходила в отчаяние, если они были недостаточны» . Замужняя женщина продолжает грезить о своем возлюбленном: «Увижу ли я свою Беатрису?» . Возможно, сугубо платонические отношения Данте и Беатриче вызвали строчки из 43-го стихотворения цикла К. Бальмонта «Любовь и тени любви» (1895). В этом стихотворении, как и в других произведениях этого автора, о литературности переживаний героя и героини свидетельствует их сугубо романтический, мечтательный характер: И взоры жадные слились В мечте, которой нет названья, И нитью зыбкою сплелись, Томясь и не страшась признанья . Бальмонт посвятил Беатриче сонет 1895 г. с одноименным названием, в котором возникает традиционно романтическое противопоставление героев толпе, окружающей их: Я полюбил тебя, лишь увидал впервые. Я помню, шел кругом ничтожный разговор, Молчала только ты, и речи огневые, Безмолвные слова мне посылал твой взор . Возлюбленная героя общается с ним не посредством слова, а посредством взора. Ее словесное молчание сопровождается разговором глаз, их речами огневыми. Важно подчеркнуть, что встреча Беатриче и ее возлюбленного воспринимается как первая по прошествии года: За днями гасли дни. Уж год прошел с тех пор. И снова шлет Весна лучи свои живые, Цветы одели вновь причудливый убор, А я? Я все люблю, как прежде, как впервые. Через год приметами героини также оказываются словесное безмолвие и говорящий взор: И ты по-прежнему безмолвна и грустна, Лишь взор твой искрится и говорит порою. Не так ли иногда владычица-Луна. Свой лучезарный лик скрывает за горою . Думается, что от имени Беатриче написано стихотворение К. Бальмонта «Люблю тебя» (1909). Эпиграфом к нему стала строчка-перевод с итальянского: «Потому что живу только для тебя» . Монолог женщины обращен к возлюбленному. Сближают это стихотворение с сонетом, посвященным Беатриче, мотивы огня, несмолкающих внутренних речей и ситуация первой встречи: Люблю тебя, люблю, как в первый час, Как в первый миг внезапной нашей встречи. Люблю тебя. Тобою я зажглась, В моей душе немолкнущие речи . В 1909 г. Н. Гумилев написал цикл стихотворений и назвал его «Беатриче». Первое произведение цикла было озаглавлено «Загадка». Н. Оцуп отмечал, что «уже юношеские "Жемчуга" привлекают напряженной тоской по Беатриче», он полагал, что в этом стихотворении автор характеризовал самого себя . Тоска по Беатриче оказывается тоской по идеалу, который воплощен в образе возлюбленной Данте: Жил беспокойный художник. В мире лукавых обличий -Грешник, развратник, безбожник, Но он любил Беатриче . Хотя следует добавить, что Беатриче для Гумилева - это также Ахматова, с которой он познакомился «в Сочельник, 24 декабря, в Царском селе» в 1903 году» : Дальше, докучные фавны, Музыки нет в вашем кличе! Знаете ль вы, что недавно Бросила рай Беатриче . Она сходит в ад и изливает свет на поэта-грешника. Биографические реминисценции дополняются у Гумилева, как и у других авторов, литературными впечатлениями о рае и аде, вызванными знакомством с «Божественной комедией»: Тайные думы поэта В сердце его прихотливом Стали потоками света, Стали шумящим приливом . О прославленном флорентийце и его возлюбленной упоминает также О. Мандельштам в стихотворении «Извозчик и Дант» (1925). Автор «Божественной комедии» уподобляется в нем простолюдину: Извозчик Данту говорит С энергией простонародной. О чем же? О профессии свободной, О том, что вместе их роднит . Об обыденном и даже шутливом содержании стихотворения свидетельствует сравнение возраста лошади извозчика с количеством лет, потраченных Данте на ухаживания за Беатриче: Ведь лошади моей, коль хорошенько взвесить, Лет будет восемь иль, пожалуй, десять, -И столько же ходил за Беатричей ты . XIV в. нельзя себе представить без Лауры - возлюбленной Петрарки. По словам К.Н. Батюшкова, «стихи Петрарки, сии гимны на смерть его возлюбленной, не должно переводить ни на какой язык; ибо ни один язык не может выразить постоянной сладости тосканского и особенной сладости музы Петрарковой» . А.Н. Веселовский в 1905 г. написал большую статью под названием «Петрарка в поэтической исповеди Canzoniere (1304-1904)». Она посвящена 600-летнему юбилею со дня рождения итальянского поэта. В ней он указывал не только на тесные литературные связи Петрарки с тосканскими поэтами , но и на любовную историю Петрарки и Лауры и особенно на то, как соотносятся между собой слова лавр и Лаура: «К философско-поэтическому синтезу «нового стиля» Петрарка не был готов, но сам он выходил к чему-то подобному в неясной работе самосознания. На первых порах этот синтез, случайно подкрепленный созвучием Laura и lauro, любовь и слава» ; «Это смешение, в котором центр постоянно колеблется между Лаурой и лавром, преследует фантазию Петрарки на всем протяжении Canzoniere» ; «Слава - это форма переживания, к которому стремится познавшая себя личность; но важно отметить внутреннюю связь, в какой представляется Петрарке любовь и классическая слава: слава Лауры возбудила в нем вожделение еще большей славы (famae clarioris), исповедует он бл. Августину, а тот ему в ответ: и так ты возлюбил поэтический лавр (lauream), ибо от него и имя Лауры» . История Петрарки и Лауры привлекала внимание Вяч. Иванова, переводчика III сонета «Был день, в который, по Творце вселенной», XIII сонета «Когда в ее обличии проходит», LVII сонета «Мгновенья счастья на подъем ленивы» и др. Безусловно, флорентийским можно считать стихотворение «Apol-lini», опубликованное в одноименном журнале в 1909 г. Миф о Дафне и Аполлоне под пером Иванова превращается в миф о Лавре (Лауре) и Петрарке. Авторские размышления в произведении явно восходят не только к греческому мифу, но и, как отмечает А.Н. Веселовский, к VIII канцоне Петрарки, «в которой подробно описана метаморфоза, знакомая из Овидиева рассказа о Дафне» : Кто вещих Дафн в эфирный взял полон, И в лавр одел, и отразил в кринице Прозрачности бессмертной?.. Аполлон! . При характеристике Тептелкина, его «благополучной» жизни с Марьей Петровной в романе К. Вагинова «Козлиная песнь» (1928) тема смерти, тема Ленинграда, несущего смерть, имеет особое значение. Осознание того, что он - не Петрарка, а жена - не Лаура - свидетельство нравственной гибели героя, предвестие реальной смерти его подруги. И одинокий Неизвестный поэт, вернувшийся жить к матери, и бездетный Тептелкин, живущий с женой-матерью, покупающий детские игрушки, одинаково несостоятельны как художники слова, в сравнении с литераторами итальянского Возрождения, в частности с Петраркой. По словам Вагинова, «некоторые студенты (Тептелки-на. - М.Г.) принялись изучать итальянский язык, чтобы читать о любви Петрарки и Лауры в подлиннике» . Знаковой фигурой во Флоренции XV в. была Симонетта Веспуч-чи. По словам О. Петрочук, «генуэзка Симонетта Каттанео, жена Марко Веспуччи, с 16 лет жившая во Флоренции, стала Прекрасной Дамой принца Юности Джулиано» (Медичи. - М.Г). Именно она явилась воплощением любви, прообразом героинь на прославленных картинах придворного живописца Лоренцо Великолепного - Сандро Боттичелли. В стихотворении Вяч. Иванова «Клан пращуров твоих взрастил Тибет» из цикла «Золотые завесы» отмечается, что любовным представлениям всегда уделялось много внимания, к примеру, в тибетской, индийской, египетской, христианской мифологиях: Клан пращуров твоих взрастил Тибет, Твердыня тайн и пустынь чар индийских, Напечатлел смиренномудрый свет. Но ты древней, чем ветхий их завет. Я зрел тебя, средь оргий мусикийских, Подъемлющей, в толпе рабынь нубийских, Навстречу Ра лилеи нильский цвет . В этом контексте нетрудно «расшифровать» вторую часть сонета, собственно итальянскую и флорентийскую. Иванову удается воспроизвести атмосферу пиров, веселья, танцев, песен, стихов, маскарадов той поры. Не случайно П.П. Муратов писал об одном из периодов в жизни Боттичелли: «Время Джулиано и Симонетты, сонетов Лорен-цо Великолепного и стансов Полициано, время турниров и карнавальных шествий.» . Имена Лоренцо Великолепного и Боттичелли сближал также Дж. Вазари: «В это же самое время, иначе говоря, во времена великолепного Лоренцо старшего деи Медичи, кои для людей талантливых были поистине золотым веком, процветал и Александр, именовавшийся, по обычаю нашему, Сандро и прозванный Боттичелли.» . Мысленно герой этого стихотворения переносится во Флоренцию Лоренцо Медичи, Джулиано Медичи и его возлюбленной, Сандро Боттичелли и их Весны: Пяти веков не отлетели сны, Как деву-отрока тебя на пире Лобзал я в танце легкой той Весны, Что пел Лоренцо на тосканской лире: Был на тебе сапфиром осиян, В кольчуге золотых волос, тюрбан . Весна - это молодость, воплощение любви, наконец, прославленная картина Боттичелли. Пяти веков не прошло со времени создания «Весны» (1477-1478). Симонетту автор сонета называет девой-отроком, поскольку ее «по-видимому, отличала большая одухотворенность, неотделимая от несколько хрупкой болезненности» . В сознании художника Джулиано с Симонеттой соотносятся так же, как Данте с Беатриче, Петрарка с Лаурой. По словам О.К. Петрочук, «на Сандро Боттичелли трагическая развязка любви Джулиано повлияла не меньше, чем смерть Беатриче на Данте» . Наконец, об особой роли маскарадов в тот период свидетельствует тюрбан на голове ивановской Весны. Возможно, воспоминаниями о Флоренции навеяно стихотворение М. Кузмина «Симонетта» (1917). В одном из писем к Г.В. Чичерину он упоминал, что «здесь, (в Риме. - М.Г.) я получил стихотв L. Medici и G. Cavalcante, есть чудные» . В дневнике за 1934 г. он отмечал, что Симонетта - «символ, не человек, которую Боттичелли так везде и рисовал в виде Венер, Мадонн, весен, возлюблен Лоренцо, воспетая Полициано» , что она «на вечные века символ скоропроходящей молодости», что она «восторженная, радостно-удивленная, открытая для всего и всех, легкий, убегающий профиль. Всем несет радость и прелесть жизни, и сама первая это восторженно воспринимающая» . Именно на эту тему быстротекущей человеческой жизни и размышляет Кузмин в стихотворении «Симонетта»: Ведь день удачный Иль праздный день -Все к смерти мрачной Мелькнут, как тень. О, Симонетта! . Лейтмотивом произведения становится слово «спеши»: «спеши в леса», «спеши, спеши» . В нем лето так противопоставляется зиме, как жизнь - смерти: Промчится лето, Близка зима. Как грустно это, Пойми сама, О, Симонетта! . Симонетта - это символ жизни, весны, любви, радости, Флоренции, как Беатриче или Лаура. Кузмин размышляет о том, чего, как ему кажется, не замечает никто, кроме него самого и прославленного художника: «И Боттичелли, который видит то, чего никто, ни она сама не видит, ее обреченность» . Эта обреченность, скорее всего, усиливает впечатление радости, прелести и красоты. Автор дневника предстает не только знатоком живописи, но и ценителем женской красоты. Если Вяч. Иванов и М. Кузмин в своих произведениях переносятся в прошлое, то Е.П. Ростопчина поверяет настоящее минувшим и приходит к неутешительным выводам. Интересно, что в повести «Палаццо Форли» (1852), необыкновенно насыщенной в живописном плане, она не упоминает имени Боттичелли. Вероятно потому, что флорентийскому художнику удалось невероятным образом соединить чувственное с бестелесным. Великолепие внутреннему убранству Палаццо Форли придают женские изображения: в сенях палаццо на плафоне, расписанном Гви-до Рени, представлена Аврора , в круглом зале замка внимание привлекают беломраморные статуи - Венеры, только что вышедшей из океана , Дианы, летящей, воздушной, недосягаемой, обаятельной , а в четырехугольной гостиной, обитой зеленым штофом, завораживают чудесные портреты - Магдалины Карло Дольчи, Магдалины Гвидо Рени и, наконец, Богоматери Фра Бартоломмео . По словам Ростопчиной, «у него (у Бартоломмео. - М.Г.) она (Богоматерь. - М.Г.) является не земным существом, как у других живописцев, не жилицею земли, а всегда бестелесным видением, небесным идеалом красоты, в котором не от формы, не от очертаний, не от оттенков зависит несравненная красота: форма, очертания и оттенки тают и сливаются в выражении, соединяющем в себе все, что дает понятие о святости, о благости, о возвышенности.» . Эмоциональная лексика, использованная автором, напоминает о важнейших качествах поэзии В.А. Жуковского. Характер описания небесного идеала красоты у Ростопчиной заставляет вспомнить о гении чистой красоты у первого русского романтика в стихотворении «Лалла Рук» (1821): Ах! Не с нами обитает Гений чистой красоты; Лишь порой он навещает Нас с небесной высоты . Эта реминисценция тем более убедительна, что Тереза Бальбини, героиня повести «Палаццо Форли», наряжается на флорентийский карнавал восточной повелительницей: «.как бы хорошо было взять из любого романа, или из какой-нибудь поэмы, из английской непременно, - это моднее!.. взять, я говорю, идею, предмет и осуществить его. хоть бы, например, из дивных восточных сказок Томаса Мура, путешествие султанши Нурмагаль.» . Восточная поэма Т. Мура «Лалла Рук» порождает как размышления о гении красоты, так и об адюльтерных, явно сниженных ситуациях и героях. Если картина Бартоломмео - сокровище дома Форли, то в этом же доме располагаются диванная, «обитая восточными тканями, устланная персидскими коврами, окруженная парчовыми диванами.» и маленький будуар, «покрытый сверху донизу зеркалами, по которым были разрисованы амуры в гирляндах и бабочки, порхающие в вычурной изысканности самого отчаянного рококо» . Ростопчина сравнивает диванную в восточном вкусе с будуаром точно так же, как основателя будуара Агостино Форли с его прароди-тел ем: «Агостино, устраивая в дедовском палаццо свою игрушечную каморку, только последовал примеру одного из своих предков, которым была учреждена и убрана восточная диванная» . Интересно, что Агостино получает уничтожающую характеристику от автора повести, отказывающую ему в праве называться тосканцем, а значит, и флорентийцем: «В нем невозможно было угадать тосканца, правнука древнего рода воителей и государственных мужей» . Этот приговор становится еще более важным потому, что «на него похож внук его, теперешний маркиз Лоренцо, брат Пиэрри-ны» . Разоблачение Лоренцо осуществляется за счет возможного пародирования героем Лоренцо Великолепного, за счет его связи с Терезой Бальбини, возможно пародирующей возлюбленную Джулиано Медичи, брата Лоренцо, Симонетту Веспуччи. Лоренцо Форли ничем, кроме имени, не напоминает своего великого предшественника из рода Медичисов: «Лоренцо?.. Быть не может! где ему отыскать такое чудо красоты?.. Разоренному повесе, обнищавшему игроку, заполонить такую Венеру, такую Гебу! нет! Это невозможно!..» . Маркиз Форли тратит на свою возлюбленную достояние рода: «две ветки разноцветных роз были прикреплены к густой косе бриллиантовыми шпильками» , «бриллианты возвышали очаровательную красоту этой женщины» , «он ей подарил эти дорогие брильянты, которые горят звездами в ее ушках» . Тереза Бальбини не похожа на Симонетту, на символ поры Ло-ренцо Великолепного, на прообраз героинь Боттичелли. Ростопчина разоблачает свою «Венеру», во-первых, тем, что ее красота могла бы стать источником вдохновения не только для Тициана, да Винчи, но и для Паоло Веронезе. . Во-вторых, мнимую богиню Весны Боттичелли дискредитируют бриллианты в волосах, в ушах и цветы, доставленные издалека: «.они (букеты. -М.Г.) были набраны из самых редких и дорогих тепличных растений, вывозных образцов богатой австралийской флоры» . В-третьих, не менее разоблачительным оказывается страстное желание неудавшейся примы стать маркизой Форли . Мы вспомнили о трех выдающихся женщинах, чьи жизни и смерти принадлежат городу цветов, без которых его история будет неполной. Однако они не только прошлое Флоренции, но также ее настоящее и будущее. Образы Беатриче и Данте в произведениях русских авторов рассматриваются в неразрывной связи, это части одного целого. Их история индивидуальна в силу ее реальности, но она же и универсальна, отличается общечеловеческим характером. В ней содержится пример поклонения не только женщине, но и ангелу, слетевшему с неба. Имена Лауры и Петрарки для русских писателей соединены друг с другом, как имена Данте и Беатриче. Однако если для автора «Божественной комедии» любимая - это недостижимый идеал, то для создателя прославленных сонетов и канцон - это еще и синоним его поэтической славы или, по-другому, она и есть слава, он возлюбил славу как женщину, возможно, как женский город - Флоренцию. Образ Симонетты в сознании русских сочинителей неразделим с флорентийской живописью, в особенности с прославленными картинами Боттичелли. Благодаря мастерству его кисти она стала воплощением не только одухотворенности и небесной красоты, но также телесности и земной привлекательности на все времена.
Великий поэт европейского Средневековья, один из тех, кто стоял у начала и закладывал основы эпохи Возрождения, несравненный Франческо Петрарка (1304—1374) своей славой во многом обязан прекрасной музе — Лауре де Новес (1301 —1348). Эта женщина покорила сердце поэта и вдохновила его на создание неподражаемых сонетов, по сей день считающихся образцом жанра.
Франческо Петрарка родился 20 июня 1304 года в итальянском городе Ареццо в семье нотариуса Пьетро Паренцо делл Инчези, который еще до рождения сына был изгнан из Флоренции. В 1311 году семья нотариуса переехала в Авиньон — резиденцию римских пап во французском плену. Здесь Паренцо изменил фамилию на Петрарка.
Ее-то в дальнейшем и прославил поэт. В Авиньоне Франческо обучался латыни, знакомился с сочинениями Цицерона, вырабатывал свой собственный стиль в поэзии.
В 1326 году умер отец Петрарки, а Франческо, навсегда оставивший юриспруденцию, был рукоположен в младший церковный чин. Это дало ему возможность пользоваться всеми преимуществами сана и в то же время не исполнять церковные обязанности.
Тот солнечный апрельский день, когда поэт впервые увидел свою возлюбленную, Петрарка запомнил на всю жизнь. Они встретились 6 апреля 1327 году в Страстную пятницу в маленькой церквушке Св. Клары в предместьях Авиньона. Он — молодой, но уже признанный при папском дворе двадцатитрехлетний поэт, совершивший несколько дальних путешествий, она — замужняя двадцатишестилетняя женщина, у которой было к тому времени несколько детей (всего Лаура родила мужу одиннадцать детей). Белокурая, с огромными и добрыми глазами, она казалась воплощением женственности и духовной чистоты. Очарованный ею, Петрарка напишет:
Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край, и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!
Ф. ПЕТРАРКА
Прекрасная женщина стала музой, мечтой поэта в вечности. И даже когда заботы и возраст исказили ее прекрасное лицо глубокими морщинами1, поседевшие волосы утратили красоту, а фигура испортилась после многих родов, Франческо Петрарка и тогда любил свою Лауру. Чем больше она старела, тем более он восхищался ее женственностью и очарованием. Она и в старости была для него прекрасна. Петрарка вспоминал, что Лаура обладала исключительной красотой, но, кроме того, он по своей воле наделял ее высокой духовностью и нравственностью.
Идеальные душевные черты героини поэзии Петрарки стали той почвой, на которой благодатно разросся жесткий спор между литературоведами, изучающими жизнь поэта. Одни утверждают, что Лаура — всего лишь идеальный образ, сложившийся в воображении великого отшельника, так сказать женщина-миф, а Лаура де Новее — остроумный камуфляж выдумки? Другие не сомневаются, что Лаура реальна и Петрарка был на самом деле страстно в нее влюблен всю жизнь. Возможно, Лаура де Новее была женой местного рыцаря Гуго де Сада, предка знаменитого французского романиста маркиза де Сада.
Они встречались на улицах Авиньона, в церквях, на службах, и влюбленный Франческо, не смея отвести от своей музы глаз, смотрел на нее, пока та не уходила под руку с мужем. За все годы встреч они не обмолвились ни единым словом. Но всякий раз, заметив обращенный к нему нежный теплый взгляд Лауры, счастливый поэт возвращался домой и до утра писал посвященные ей сонеты. Знала ли Лаура о его чувствах? Могла ли знать она, что навечно связана с одним из самых великих поэтов мира? Что через века потомки будут называть ее имя, как символ безраздельной любви мужчины к женщине? В 1330 году Петрарка уехал в Болонью, куда его пригласил друг Джакомо Колонна. Позже на долгое время поэт стал секретарем брата Джакомо — кардинала Джованни Колонна, принявшего Франческо скорее как сына, а не служителя. Теперь поэт мог спокойно жить и творить. Он много путешествовал, изучал классическую литературу Рима и труды отцов христианства.
Путеводителем по духовной жизни стала для Петрарки «Исповедь» св. Августина. Откликаясь на поучения святого, поэт создал знаменитое «О сокровенном», в котором он вступил в сокровенный диалог со св. Августином и открыл ему свое сердце. В частности, учитель веры упрекал поэта в грехах и мирских слабостях. Обвинил он поэта и в любви к Лауре. Петрарка, объясняя Августину свои чувства, клялся, что за долгие годы не допустил ни единого помысла о греховном прикосновении к этой святой женщине.
Но нельзя обвинить поэта в ханжестве. Да, он любил Лауру великой платонической любовью. Но это не мешало ему любить женщин страстной физической любовью. Он встречался с другими женщинами, от которых имел побочных детей: в 1337 году у поэта родился сын Джованни, а через шесть лет, в 1343 году, появилась на свет любимая дочь Франческа, которая жила с отцом и ухаживала за ним до конца его дней.
Судьба Лауры неизвестна. Была ли счастлива она в семейной жизни? Любила ли своего мужа? Замечала ли трепетный и влюбленный взгляд поэта, встречавшегося с ней на оживленных улицах Авиньона? Могла ли догадываться она о чувствах мужчины, так никогда и не открывшего ей своего сердца? Этого мы никогда не узнаем.
Лаура умерла 6 апреля 1348 года во время свирепствовавшей в Европе чумы. Именно в тот день, когда двадцать один год назад впервые увидел свою музу воспевший ее поэт. Долго и мучительно переживал Франческо Петрарка смерть возлюбленной. Закрываясь по ночам в комнате, при тусклом свете свечи он воспевал прекрасную Лауру в сонетах:
Я припадал к ее стопам в стихах,
Сердечным жаром наполняя звуки,
И сам с собою пребывал в разлуке:
Сам — на земле, а думы — в облаках.
Я пел о золотых ее кудрях,
Я воспевал ее глаза и руки,
Блаженством райским почитая муки,
И вот теперь она — холодный прах.
А я без маяка, в скорлупке сирой
Сквозь шторм, который для меня не внове,
Плыву по жизни, правя наугад.
Ф. ПЕТРАРКА
После смерти Лауры рукой Петрарки были написаны «Стихи на смерть мадонны Лауры», «Триумф смерти», «Триумф славы». В 1353 году он навсегда вернулся в Италию, купив небольшое поместье.
Франческо Петрарка пережил свою возлюбленную на двадцать шесть лет. Но и после ее смерти он любил Лауру все так же восторженно и трепетно, посвящая ей, уже ушедшей из этого мира, прекрасные сонеты, всего около четырехсот. Все они были собраны в «Канцоньере» («Книге песен»), которая является самым знаменитым сочинением поэта.
В целом это были годы многочисленных поездок по Европе с дипломатическими миссиями; дружбы с Боккаччо, благодаря которой, по мнению подавляющего большинства ученых, началось обновление европейской культуры, что положило начало эпохе Высокого Возрождения.
Последние годы жизни Петрарка провел в Падуе, под защитой правителя этой маленькой страны Франческо да Каррара. Спокойствие в собственном доме рядом с любимыми дочерью и внуками омрачали постоянные приступы лихорадки. Великий поэт умер 19 июня 1374 года, один день не дожив до своего 70-летия.
Образ Прекрасной Дамы очень популярен в лирике поэтов Позднего Средневековья и эпохи Ренессанса. Платоническая любовь и недостижимая возлюбленная считались главными источниками их вдохновения. Франческо Петрарка
стал одним из первых поэтов того времени, в чьем творчестве отобразились истинные чувства и душевные переживания. Музой всей его жизни стала златокудрая Лаура. Девушка, возможно, даже и не догадывалась о чувствах Петрарки, но поэт был верен ей всю свою жизнь.

После смерти отца Франческо Петрарка получил в наследство только лишь рукопись Вергилия. Понимая, что ему нужно искать средства к существованию, он стал членом монашеского ордена францисканцев, поселился в Авиньоне (Франция) при папском дворе и принял духовный сан. Параллельно Петрарка занимался литературной деятельностью, которая принесла ему большую известность.

Находясь в Авиньоне, Петрарка впервые увидел Лауру. Это произошло 6 июля 1327 года у церкви Святой Клары. На полях рукописи Вергилия влюбленный сделал пометки: «Лаура, известная своими добродетелями и долго прославляемая моими песнями, впервые предстала моим глазам на заре моей юности, в лето Господне 1327, утром 6 апреля, в соборе святой Клары, в Авиньоне…»
Был день, в который по Творце вселенной
Скорбя, померкло Солнце… Луч огня
Из ваших глаз врасплох застал меня:
О, госпожа, я стал их узник пленный…

Исследователи считают, что женщиной, покорившей сердце Петрарки, была Лаура де Нов, дочь синдика (старшины гильдии) Одибера де Нов. Репутация златокудрой красавицы была безупречной: примерная супруга, многодетная мать (всего она родила 11 детей). Петрарка ранее дал обет безбрачия, поэтому ему только и оставалось, что ловить ее взгляды на службе в церкви, или вздыхать, когда она проходила мимо по улице. Неизвестно, знала ли сама Лаура о пылких чувствах тайного поклонника.
Однако даже друзья сомневались в существовании Лауры, т. к. ее имя фигурировало только в сонетах, балладах, мадригалах. Косвенным подтверждением реальности Прекрасной Дамы является тот факт, что Петрарка однажды заказал камею с изображением возлюбленной.

Имя своей златокудрой Музы Петрарка неустанно обыгрывал в своем творчестве: lauro - «лавр», l’aureo crine - «золотые волосы», l’aura soave - «приятное дуновение», l’ora - «час»). Петрарка писал, что него есть только два мирских желания: Лаура и лавр (т. е. слава).
Средь тысяч женщин лишь одна была,
Мне сердце поразившая незримо.
Лишь с обликом благого серафима
Она сравниться красотой могла.

Петрарка посвятил Лауре 336 сонетов, которые объединил в «Книгу песен». Творчество поэта ознаменовало собой начало эпохи Проторенессанса, демонстрируя новую художественную форму лирики, в которой основой выступают личные чувства поэта, всеобъемлющая любовь и к Богу, и к человеку.
По иронии судьбы Лауры не стало ровно через 21 год их знакомства. На полях рукописи Вергилия убитый горем поэт написал: «…И в том же городе, также в апреле и также шестого дня того же месяца, в те же утренние часы в году 1348 покинул мир этот луч света, когда я случайно был в Вероне, увы! о судьбе своей не ведая…»
Погас мой свет, и тьмою дух объят -
Так, солнце скрыв, луна вершит затменье,
И в горьком, роковом оцепененье
Я в смерть уйти от этой смерти рад.

В тот год в Авиньоне свирепствовала чума, но достоверно неизвестно, от чего умерла Лаура де Нов. Петрарка не мог смириться с кончиной возлюбленной. Каждое последующее 6-е апреля он отмечал новым сонетом, написанным в честь его Прекрасной Дамы.
Современные издатели разбили сборник стихов Петрарки на 2 части: «На жизнь мадонны Лауры» (Rime in vita Laura), и «На смерть мадонны Лауры» (Rime in morte Laura). Любопытно, что в подлиннике между двумя периодами разбивки нет. Петрарка лишь вшил между ними белые листы. Он старался не замечать, что его возлюбленной уже нет в живых. Незадолго до своей смерти поэт писал: «Уже ни о чем не помышляю я, кроме неё».
В картинах художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли также прослеживается образ Прекрасной Дамы.
 Литературно-исторические заметки юного техника
Литературно-исторические заметки юного техника Комментарии к "седьмой подвиг геракла"
Комментарии к "седьмой подвиг геракла"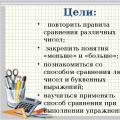 Числовые неравенства и их свойства
Числовые неравенства и их свойства