Арсений Несмелов. Поэзия Первой мировой войны. Бросает светящийся конус. Я пустое сердце разорву
Арсений Несмелов (Митропольский) родился в дворянской семье 8 июня 1889 года. О его детстве и юности почти не сохранилось свидетельств - только отрывочные сведения, встречающиеся в отдельных поэтических и прозаических произведениях..Учился во Втором Московском кадетском корпусе, из него перевелся в Нижегородский Аракчеевский, который и окончил в 1908 году Известно и то, что его поэтический дар проявился именно в кадетском корпусе. Печататься Митропольский стал в возрасте 23 лет, впервые опубликовавшись в популярнейшей "Ниве".Будучи почти незамеченным, он некоторое время оставался на литературной периферии. Первая мировая война определила дальнейшее творчество Арсения Митропольского.Жизнь подлинного поэта и его поэтическое предназначение не противоречат друг другу.20 июля 1914 года Арсений, уже ставший к тому времени Несмеловым, призывается из запаса сперва в чине прапорщика, позднее подпоручика и поручика в ряды 11-го гренадерского Фанагорийского полка. В 1915 году выходит его первая книга, сборник стихов и прозы "Военные странички". Воинский подвиг, героизм, беззаветное служение империи становятся лейтмотивом этого сборника. Вкус к Риску и документальная точность сближают творчество Арсения Несмелова с творчеством Эрнста Юнгера.Глубинная связь начинающего русского поэта и немецкого идеолога консервативной революции бесспорна.
1 апреля 1917 года Арсений, перенесший ранение и награжденный четырьмя орденами, отчисляется в резерв. Ветеран войны, настоящий окопный аристократ, он принимает активное участие в антибольшевистском восстании юнкеров. Об этих памятных днях Немелов будет вспоминать в поэме "Восстание", опубликованной в Харбине в 1942 году.
"Мы - белые. Так впервые
Нас крестит московский люд.
Отважные и молодые
Винтовки сейчас берут"
Вызов был брошен. В дни помрачения, предательства и красного вандализма горстка юнкеров отстаивала Честь будущих поколений. Она искупала жгучий позор страны своей кровью. Бесконечный трагизм был воспринят Несмеловым с почти религиозной, апокалептической надеждой.В начале ноября 1917 года принимал участие в московском восстании юнкеров. Через несколько недель уехал из Москвы на Урал (в г. Курган), позднее - в Омск, где присоединился к войскам Верховного главнокомандующего А. В. Колчака; был адъютантом коменданта Омска подполковника Катаева, тогда же получил чин поручика.
"И до сих пор они в строю,
И потому надеждам сбыться:
Тебя добудем мы в бою,
Первопрестольная столица"
("Восстание")
"Два раза уезжал из Москвы, и оба раза воевать". Так скупо, по-солдатски отрапортует он в своей автобиографии. Враг, с котором воевал Несмелов, был определен, как был предопределен и единственно возможный метод борьбы с ним:
"У него глаза, как буравцы,
Спрятавшись под череп низколобый,
В их бесцвет, в белесовость овцы
Вкрапла искрь тупой хорячьей злобы.
Поднимаю медленно наган,
Стиснув глаз, обогащаю опыт:
Как умрет восставший хулиган,
Вздыбивший причесанность Европы?"
("Враги")
Все, знавшие Несмелова, отмечали его поразительное бесстрашие. Поэт-воин, участник легендарного Ледового похода, он действительно не ведал компромиссов.
Ведя ожесточенные бои, армия Колчака отходила к Приморью, где в ту пору возникло так называемое "буферное государство" - Дальневосточная республика (ДВР). Обосновавшись во Владивостоке, ставшим довольно мощным центром отечественной культуры, Несмелов всецело посвящает себя поэзии и журналистике, взяв в качестве литературного псевдонима фамилию погибшего на фронте друга До осени 1922 года большевики ликвидировали ДВР. Волна антирусского террора докатилась и до Владивостока. Над Несмеловым устанавливается контроль ОГПУ, ему запрещается покидать город. В этих условиях он принимает решение пересечь таежную границу и бежать в Китай.
"Иду. Над порослью - вечернее
Пустое небо цвета льда.
И вот со вздохом облегчения:
"Прощайте, знаю: навсегда!"
("Переходя границу")
Предчувствие обманет поэта. Он уходил не "навсегда". Возвращение на Родину состоялось. Оно было последним странствием, восхождением на большевистскую голгофу.
В Харбине Несмелов сближается с лидером Всероссийской фашистской партии Константином Родзаевским и начинает печататься в журнале "Нация". Личность Родзаевского произвела на него просто неизгладимое впечатление. Убежденный националист, великолепный оратор,излучавший энергию все своим существом, Родзаевский воплощал тип русской героической жертвенности. ВФП с ее боевым духом, ненавистью к Коминтерну и Фининтерну была подлинным проявлением революционного национализма.Однозначная религиозная направленность сближала русских фашистов с такими движениями, как "Железная гвардия" К. З. Кодряну и "Испанская фаланга" Х. А. Примо де Ривера.
Арсений Несмелов, наконец,обрел идеологию, которая соответствовала его духовному статусу. Еще в Москве в разговоре с писателем И. Садовским Несмелов сетовал на отсутствие сильной государственной идеологии."Идеология - жесткая, определяющая, была только у коммунистов, - говорил Несмелов. - Она насчитывала за собой чуть ли не целый век развития. А что у нас было? Москва - "золотые маковки"? За века русской государственности никто не позаботился о массовой, государственной идеологии".
Под именно влиянием русского революционного национализма Немелов пишет свои лучшие произведения:сборник стихов "Только такие" и поэму "Георгий Семена".Именно в стихах этого периода поэт фактически создает принципиально новый стиль.
"Я стихов плаксивых не читаю
С горьким сетованием на судьбу -
Установку я предпочитаю
На сопротивление и борьбу"
("Чернорубашечник")
Это не узкопартийные агитационные стихи. Это сверхчеловеческий рывок за грань материальной обусловленности. Это призыв к грядущему Русскому Ордену:
"Годы отбора, десятилетья…
Горбится старость
Но крепнут дети:
Тщательно жатву обмолотив,
Партией создан стальной актив.
И чтобы не сделали вы со мной, -
Кадры стоят за моей спиной"
("Георгий Семена")
"Русский фашизм, - писал в предисловии к книге стихов Несмелова "Только такие" Константин Родзаевский, - породил свою поэзию. Новые люди, решившие во что бы то ни стало построить свою Россию, ищут новых стихов для воплощения в стихе своей воли к жизни - воли к победе. Эта поэзия - поэзия волевого национализма: стихи о Родине и о борьбе за нее".
На вышедшем в Харбине сборнике "Белая флотилия" Несмелов написал, отправляя его в 1942 году жившей в Шанхае Лидии Хаиндровой: "Как видите, я еще жив". Жить поэту оставалось недолго. В середине августа 1945 года в Харбин вступили советские войска. Члены ВФП подверглись репрессиям. Арсений Несмелов был арестован смершевцами и в том же году скончался в гродековской пересылке от кровоизлияния в мозг.
Путь русского революционного национализма был воистину путем крестным.В подвалах Лубянки оборвалась жизнь Константина Родзаевского и его ближайших соратников. Но как известно: "… аще зерно пшеничное пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, мног плод сотворит" (Ин 12, 24).
Импульс русского революционного национализма - это творческий, жизнеутверждающий импульс. Перед ним бессильны и большевистские палачи и "политкорректные" жалкие либералы. Мы видим, как на ниве, обагренной кровью воинов-поэтов, восходят колосья нашей поэзии - волевой и могучей. И снова свежей, очистительной грозой звучат стихи Арсения Несмелова:
"Воля к победе.
Воля к жизни.
Четкое сердце.
Верный глаз.
Только такие нужны Отчизне,
Только таких выкликает час"
Промозглым утром поздней весны 1924 года из красного Владивостока сбежали четверо белых. Много дней блуждали в дебрях и сопках, рисковали жизнью, голодали, мерзли у ночных костров. Наконец вышли на границу с Китаем. Еще через неделю были в Харбине. Спаслись.
Этим четверым повезло не встретить врага, не заблудиться в глуши - выручила карта местности, которую тайно передал бывшим офицерам Императорской армии другой офицер - Владимир Арсеньев, исследователь и знаток Уссурийского края. Знаем мы об этом во всех подробностях, потому что в числе беглецов был Арсений Несмелов, чье литературное имя уже в то время было довольно известно.
А сегодня постепенно, по мере нашего запоздалого узнавания его творческого наследия, входит в ряд самых ярких имен русской литературы XX века.
В туфлях по тайге
"Девятнадцать суток тайги. Клещи, от которых не было спасенья; пугающий, потому что похож на собачий (не люди ли поблизости?), лай диких козлов... Бесконечный путь по тропам и без троп; хребты, взятые в лоб. Временами отчаянье, временами бесконечная усталость, когда безразлично решительно всё; засыпание, похожее на падение в яму, и жестокая мука пробуждения от утреннего холода, когда мокрые ноги кажутся налитыми свинцом".
Этот побег как момент перелома судьбы запечатлен автором неоднократно - и в стихах, и особенно в прозе. Драматический сюжет преследовал и повторялся как страшный сон. А иногда и не очень страшный, даже местами смешной, когда автор позволяет себе веселую самоиронию и повторяет забавные детали похода вроде нелепых домашних туфель, в которых он отправился в дикую тайгу, и они то терялись в болотной трясине, то разваливались на ходу, а попутчики незлобно высмеивали приятеля.
Но даже в таких эпизодах читается между строк мучительное душевное напряжение, как у несправедливо осужденного перед завтрашней казнью.
Несправедливость. Обида и упрек. Почему так неправильно повернулась жизнь?
Изможденные путники на вершине очередной сопки увидели наконец пограничный столб, и к восторгу от достигнутой цели примешалось именно это: упрек и обида. "Мы ведь прощались с нашей родной страной! И сердце сжималось от боли, от незаслуженной обиды изгнания, на которую нас обрекал большевистский режим..." В другом месте повествования эти эмоции дрейфуют в сторону горького юмора: "Вот до чего доводит приличных людей революция!"
Еще совсем недавно эмоции были другие...
Последний оплот Империи
Вспоминался Владивосток, остававшийся спасительным до тех пор, пока до него не докатилось красное колесо, раздавившее последний оплот Империи с его политической мешаниной и почти мирной жизнью. За три года Несмелов здесь неплохо прижился, поладил и с местной властью, и с японцами, издал два сборника стихов, печатался в зарубежных изданиях от Парижа и Праги до Чикаго и Сан-Франциско. А главное - свободно общался с такими же, как он, обладателями паспортов со штампом "Бывший белый комсостав", принужденными раз в месяц отмечаться в комендатуре ГПУ. Конечно, такое поражение в правах мешало жить, но не фатально ("посещение комендатуры страшного учреждения стало для всех нас привычным, непугающим делом").
Когда кольцо красных отрядов все теснее сжимало Владивосток и многие спешили покинуть город, Несмелов испытывал смешанные чувства. "Ехать мне или нет? Два года я дрался с большевиками, но драться с человеком не значит узнать его. Почему же не посмотреть, не познакомиться?" Да и большевики, овладев Приморьем, не спешили репрессировать недавних врагов, тоже старались "посмотреть, познакомиться" - вплоть до того, что некоторых (того же Арсеньева) освобождали от надзора "как лояльного по отношению к советской власти".
Предложили и Несмелову: "Вы можете быть сняты с учета, если представите двух поручителей из числа членов профсоюза". Это прозвучало за день до побега, когда решение бежать было окончательным и бесповоротным. А если бы он получил свободу передвижения раньше - за месяц или два до того? Наверняка уехал бы в родную Москву с надеждой на дружескую протекцию влиятельных людей (например, Пастернака), знавших и высоко ценивших его поэзию.
Но что потом? На фронтах классовой борьбы, которую никто не отменял?
Вина поэта
Логику этой борьбы Несмелов изначально, интуитивно не принимал. Кровавое противостояние красных и белых он считал следствием исторической путаницы, досадным казусом всенародной судьбы. И хотя не без поэтического пафоса определил: "Мы - белые", в этом не было гордости или фанатизма, а всего лишь некоторый знак отличия, вроде шинельного шеврона (сдал шинель в цейхгауз - и ты уже вольноотпущенник, сам себе человек). Его служение "белому делу" - от мятежной кадетской Москвы до колчаковского Омска и дальше, с боями до Читы, через Маньчжурию к спасительному Владивостоку - все это служение было в сущности бегством. От неминуемой гибели в досадном и бессмысленном красно-белом водовороте.
После того как красноармейские отряды "разгромили атаманов, разогнали воевод", Владивосток недолго сохранял вид общего приюта для победителей и побежденных. Этот короткий период отразился у Несмелова в нескольких сюжетах, где персонажи, образно говоря, смотрят друг на друга с терпеливой улыбкой, а в кармане сжимают наган со взведенным курком. Мало-помалу атмосфера в городе сгущалась, участились слухи об арестах, об удачных и неудачных побегах из-под надзора красной комендатуры. В этом нагнетании событий предчувствовался не только близкий финал затянувшейся пьесы, но и столь же неминуемая "одновременная деградация революции и эмиграции".
Революция и эмиграция как результат всеобщего недомыслия, как двойное следствие одной и той же ошибки...
И каверзную эту ошибку никак невозможно исправить, только искупить, изжить этот грех - и всеобщий, и каждому свой. Несмелов, не без душевного сопротивления, признавал свою виновность в гибели Империи. И даже свое невольное соучастие в цареубийстве.
Сколько было убийц? Двенадцать,
Восемнадцать иль тридцать пять?
Как же это могло так статься -
Государя не отстоять?
Только горсточка этот ворог,
Как пыльцу бы его смело:
Верноподданными - сто сорок
Миллионов себя звало...
Главные вопросы
Он мог применить к себе смягчающее обстоятельство: оставался всегда монархистом, верным не только офицерской присяге, но и природному гражданскому чувству ("Какие-то эсдеки, эсеры, кадеты - тьфу! - даже произносить эти слова противно. Мы шли за Царя, хотя и не говорили об этом...").
"За Царя" он шел всегда. В четырнадцатом и пятнадцатом, когда подпоручик Арсений Митропольский (псевдоним Несмелов он взял в память о погибшем друге) был воином Императорской армии, месил грязь окопов на боевом рубеже против чужака австрийца - оттуда прилетел снаряд и ранил осколком... И в семнадцатом, от марта до октября, когда Император отвернулся от Царства, но был еще жив... И даже в восемнадцатом: вместе со всем белым войском оставался под сенью царского скипетра, уже упавшего, но все еще державшего за сердце и совесть, заставлявшего помнить о присяге, поднимавшего в атаку. Если бы успели отверженного, но не поверженного Николая в праведном бою отбить - не вернулся бы скипетр на свое законное место?
Пока оставалась такая надежда, красно-белая война имела для Арсения Несмелова простой и понятный смысл. Отчаянный порыв к спасению Царства был прерван в тот час, когда пришла весть о расстреле в Ипатьевском доме.
Почему рыдает седоусый воин?
В каждом сердце словно всех пожарищ гарь.
В Екатеринбурге - никни головою -
Мучеником умер кроткий Государь.
Замирают речи, замирает слово,
В ужасе бескрайном поднялись глаза.
Это было, братья, как удар громовый,
Этого удара позабыть нельзя.
Крах смысла борьбы, вот что случилось. И потом - неизбежность отступления, агония бегства. И навсегда - горькая память об утраченном смысле борьбы, сожаление о роковом проигрыше. "Жизнью правят мощные законы, / Место в битве указует рок..."
Несмелов был фаталистом? Вот уж вряд ли... Но чем дальше от роковых лет, чем ровнее дыхание после давней погони, тем внимательнее присматривался к близким и давним событиям, к судьбам героев глубинного народного сопротивления. И одобрительно повторял откровения святого сопротивленца Аввакума: "Необходимая наша беда, невозможно миновать!.. Выпросил у Бога светлую Россию сатона, да же очервленит ю кровию мученическою. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо - Христа ради, нашего света, пострадать!"
Неминуемая беда? Необходимая и даже полезная? Бог поддался просьбам дьявола не для растерзания России, а для ее поучения, чтобы преподать урок? Невозможно жить без ответов на вопросы, которые жгут память и совесть. Пускай блуждать, ошибаться, убеждаться и убеждать, искать согласия в разногласиях, вновь и вновь упорствовать в хождении по мукам самопознания...
Поэт Несмелов искал ответ на главные вопросы.
Дело N 143
В начале сороковых Россия вновь схлестнулась со смертельным врагом, и большевики - со всеми их классовыми прегрешениями - показали себя как спасители страны и народа от истребления. В это время многие жители Харбина (и других эмигрантских диаспор) менялись в своих убеждениях от антисоветчиков до "оборонцев" - сочувствующих Красной армии, радующихся ее победам. Да что говорить о простых обывателях, всегда подверженных влиянию текущих событий, если даже главарь харбинских фашистов Родзаевский писал покаянное письмо Сталину, открещивался от прежних убеждений и добровольно явился в СССР, где был вскоре расстрелян.
В хабаровском госархиве хранится "Дело N 143". Маленькое фото анфас, подписанное русскими буквами и японскими иероглифами. Из нескольких известных фотографий Несмелова эта лучше других показывает контраст внешних и внутренних проявлений характера, отразившихся и в биографии, и в творчестве. Жесткая складка рта, офицерский волевой подбородок и - глаза обиженного подростка... В этом есть что-то истинно русское. Может быть, православное смирение, сопряженное с готовностью постоять за свою правду ценой любых жертв, и трагическая несовместимость этих начал, всегда чреватая гибелью...
Анкета. Подробный опросный лист. На все вопросы Несмелов ответил с раздраженным нажимом пера: "нет", "не был", "не состоял", "не занимал", "не избирался", "ученых трудов не имею"... И с крайней степенью раздражения, разрывая слово на буквы, обозначил свои политические убеждения: "фашистские".
Как? Арсений Несмелов - фашист? Некоторые "исследователи" в этом абсолютно уверены.
Ну да, была в ту пору в Харбине "Русская фашистская партия", проводила шумные сборища, ругала жидомасонов и обещала в скором времени спасти матушку Русь. Издавала газету "Наш путь" и журнал "Нация", в которых Несмелов подрабатывал заказными стишками...
Но какой из него фашист...
Учитывать надо и то, когда и кем было заведено "Дело N 143". Под ним стоит дата: "27 мая 1935 г." В это время Харбин был уже под японской пятой, и БРЭМ ("Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи") проводил регистрацию подданных, уклониться от нее было невозможно. Чтобы оградить себя от излишнего внимания со стороны новых хозяев, следовало изобразить лояльность. А поскольку Япония союзничает с фашистской Германией, достаточно назваться фашистом. Начальство одобрительно кивнет да и оставит в покое.
Странно держать в руках эту архивную папку, содержащую всего лишь четыре листа анкеты и надпись: "Подшито и пронумеровано 106 листов". Куда делись недостающие 102? Изъяты для приобщения к другому, более важному делу? Или уничтожены?
Но ясно без всяких догадок, что злополучная строка о "политических убеждениях", дополненная перечнем боевых заслуг колчаковского поручика, стала находкой для чекистов. Легко представить себе участь Несмелова, если бы его, арестованного в августе 1945 года, вместе с другими такими же арестантами довезли до Хабаровского управления НКВД.
Но он умер в дороге, на пограничном пересыльном пункте в Гродеково, от инсульта.
Последний миф
И еще один миф о Несмелове. Когда за ним пришли в его харбинскую квартиру, он сдал оружие со словами: "Советскому офицеру от русского офицера". Затем спокойно выпил рюмку водки и подал записку: "Прошу расстрелять меня на рассвете". Советский офицер ответил: "Расстрелять на рассвете не обещаю, но о вашем желании доложу обязательно".
Поверить в эту театральную мизансцену?
Каждый из нас может судить этого человека по воле своего чувства и в силу собственной правды. А он не может в свое оправдание сказать ничего. Кроме того, что уже сказал.
После смерти поэта остаются его сочинения. Даже если не знать подробностей земной жизни автора, этих текстов бывает достаточно для уважительной памяти об умершем творце. Сочинения Арсения Несмелова заслуживают именно такого - уважительного (местами восхищенного) прочтения как образцы русской словесности. И очень важно, что помимо литературного мастерства большинство этих текстов ярко окрашено живой жизнью автора.
Он признавался: "Всякий ищет свое... А чего ищу я?.. Я люблю только точно писать жизнь, как пишет ее художник-реалист".
Как он жил, так и писал. И словно капля воды, отражающая океан, отдельная человеческая судьба, написанная художником-реалистом, отобразила всенародную судьбу на ее трагическом переломе.
Несмелов открывается нам постепенно, словно притормаживает наше нетерпение, предлагая много раз перечитать известное, прежде чем прочесть вновь открытое. Он всегда верил: его вспомнят, его прочтут. Но без особой надежды на понимание.
Иногда я думаю о том,
На сто лет вперед перелетая,
Как, раскрыв многоречивый том
"Наша эмиграция в Китае",
О судьбе изгнанников печальной
Юноша задумается дальний.
Поэт пытается рассказать о судьбе изгнанников, пролить свет на ее роковые причины... Напрасно...
Не поняв друг в друге ни аза,
Холодно разъединим глаза,
И опять - года, года, года,
До трубы Последнего суда!
Возможно ли это - понять друг друга? Почему так долго и безуспешно длится эта попытка? Останется ли неразгаданным на теле двадцатого века странное и страшное красно-белое клеймо? Может, когда-нибудь разгадаем - если диалог потомка и предка получится равноправным и честным.
Это трудно: предков давно нет в живых. Но осталось их слово о времени и о себе. Слово сказано. Надо его услышать, понять и принять.

СТИХИ О ХАРБИНЕ
Арсений Несмелов
Под асфальт, сухой и гладкий,
Наледь наших лет, -
Изыскательской палатки
Канул давний след...
Флаг Российский. Коновязи.
Говор казаков.
Нет с былым и робкой связи, -
Русский рок таков.
Инженер. Расстёгнут ворот.
Фляга. Карабин.
- Здесь построим русский город,
Назовём - Харбин.
Без тропы и без дороги
Шёл, работе рад.
Ковылял за ним трёхногий
Нивелир-снаряд.
Перед днём Российской встряски,
Через двести лет,
Не Петровской ли закваски
Запоздалый след?
Не державное ли слово
Сквозь века: п р и к а з.
Новый город зачат снова,
Но в последний раз.
Как чума, тревога бродит, -
Гул лихих годин...
Рок черту свою подводит
Близ тебя, Харбин.
Взрывы дальние, глухие,
Алый взлёт огня, -
Вот и нет тебя, Россия,
Государыня!
Мало воздуха и света,
Думаем, молчим.
На осколке мы планеты
В будущее мчим!
Скоро ль канут иль не скоро,
Сумрак наш рассей..
Про запас Ты, видно, город
Вырастила сей.
Сколько ждать десятилетий,
Ч т о, к о м у беречь?
Позабудут скоро дети
Отческую речь.
Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской ты рукой.
Пусть удел подобный горек, -
Не опустим глаз:
Вспомяни, старик историк,
Вспомяни о нас.
Ты забытое отыщещь,
Впишешь в скорбный лист,
Да на русское кладбище
Забежит турист.
Ты - не раб!
Закрытый образовательный курс для детей элиты: "Истинное обустройство мира".
http://noslave.org
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
| Арсений Несмелов | |
| Харбин, 1930-е гг. |
|
| Имя при рождении: |
Арсений Иванович Митропольский |
|---|---|
| Псевдонимы: |
А. Арсеньев, Н. Арсеньев, Арсений Бибиков, Сеня Смелов, Николай Дозоров, Н. Рахманов, Анастигмат, Розга, Не-пыли |
| Полное имя |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Дата рождения: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Место рождения: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Дата смерти: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Место смерти: | |
| Гражданство (подданство): |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Род деятельности: |
поэт, прозаик, журналист |
| Годы творчества: | |
| Направление: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Жанр: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Язык произведений: | |
| Дебют: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Премии: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Награды: | |
| Подпись: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). | |
|
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
|
| [[Ошибка Lua в Модуль:Wikidata/Interproject на строке 17: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |Произведения]] в Викитеке | |
| Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). | |
Арсе́ний Несме́лов (наст. имя и фам. Арсе́ний Ива́нович Митропо́льский , др. псевдонимы - А. Н-ов , А. Н-лов , А. Арсеньев , Н. Арсеньев , Арсений Бибиков , Сеня Смелов , Николай Дозоров , Н. Рахманов , Анастигмат , Тётя Розга , Не-пыли ; 8 (20) июня , Москва - 6 декабря , село Гродеково Приморского края , тюрьма для пересыльных) - русский поэт, прозаик, журналист.
Биография
Родился в Москве в семье надворного советника, секретаря Московского окружного военно-медицинского управления И. А. Митропольского, бывшего также литератором. Младший брат русского писателя и редактора И. И. Митропольского .
В начале весны 1920 года оказался во Владивостоке , где занялся журналистикой и литературной деятельностью, взяв в качестве литературного псевдонима фамилию боевого товарища, погибшего под Тюменью . В мае 1924 года вместе с несколькими другими бывшими белыми офицерами пешком (благодаря карте, данной ему во Владивостоке В. К. Арсеньевым) перешёл советско-китайскую границу. Поселился в Харбине . Активно сотрудничал в местной русскоязычной периодике (журналы «Рубеж », «Луч Азии»; газета «Рупор» и др.): публиковал рассказы, стихи, обзоры, фельетоны, статьи о литературе. Некоторое время редактировал страницу «Юный читатель Рубежа» (приложение к газете «Рупор»).
Член Всероссийской фашистской партии , по заказу которой написал сборник публицистических стихов «Только такие» и поэму «Георгий Семена», изданные не под основным псевдонимом, а под именем «Н. Дозоров».
С 1941 года - курсант вечерних курсов политической подготовки, организованных при разведывательной школе в Харбине . По окончании курсов был зачислен официальным сотрудником 4 отдела Японской Военной Миссии, работал на курсах пропагандистов. Читал предмет «Литературно-художественная агитация». На курсах имел псевдоним «Дроздов». В мае 1944 был переведён в 6 отдел миссии, где и работал до занятия Харбина Красной Армией в 1945 году.
В августе 1945 года арестован и вывезен в СССР. Согласно официальной справке, умер 6 декабря того же года в пересыльной тюрьме в Гродекове (ныне посёлок Пограничный в Пограничном районе Приморского края).
Творчество
Поэзия Несмелова была известна уже в 1920-е годы, её высоко ценили Борис Пастернак , Марина Цветаева , Николай Асеев , Леонид Мартынов , Сергей Марков и др. Валерий Перелешин , представитель младшего поколения харбинских поэтов, ставил Несмелова очень высоко и считал его если не своим учителем, то человеком, которому он обязан вхождением в литературу; в 1970-1980-е годы внёс неоценимый вклад в собирание распылённого литературного наследия Несмелова.
Многие стихи Несмелова носят повествовательно-балладный характер, некоторые из них просто развлекательны, но он умел также выразить свои серьёзные человеческие устремления в строках о природе, в философской лирике и в стихах о войне ..
Библиография
- Митропольский А. Военные странички: [Проза и стихи]. М.: Изд. А. П. Гамова, 1915. - 48 с.
- Стихи. - Владивосток.: Тип. Воен. академии, 1921. - 64 с.
- Тихвин (Повесть). Владивосток: Тип. «Далекая окраина», 1922. - 14 с.
- Уступы: Стихи / Обл. А. Степанова. Владивосток: Тип. Иосифа Короть, 1924. - 32 с.
- Кровавый отблеск: Стихи. Харбин, 1929. - 32 с. (на обложке ошибочно - 1928)
- Без России. Харбин: Изд. Н. А. Гаммера, 1931. - 64 с.
- Через океан: [Поэма]. Шанхай: Гиппокрена, 1934. - 21 с.
- Рассказы о войне. Шанхай, 1936.
- Дозоров Н . Георгий Семена: Поэма. Берн [Шанхай], 1936. - 18 с.
- Дозоров Н . Только такие! Шанхай: Изд. Шанхайского отдела ВФП, 1936. - 70 с.
- Полустанок. Харбин, 1938. - 30 с.
- Протопопица: Поэма. Харбин, 1939. - 16 с.
- Белая флотилия: Стихи. Харбин: Изд. А. И. Митропольского, 1942. - 63 с.
- Избранная проза / Под ред. и с коммент. Э. Штейна. Orange: Антиквариат, 1987. - 151 c.
- Без России. Том первый / Под ред. и с коммент. Э. Штейна. Orange: Антиквариат, 1990. - 479 c.
- Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. Рассказы / [Сост. и коммент. Е. Витковского и А. Ревоненко; Предисл. Е. Витковского]. - М.: Московский рабочий, 1990. - 461, с.
- Собрание сочинений. В 2-х тт. / Сост. Е. Витковский, А. Колесов, Ли Мэн, В. Резвый; Предисл. Е. Витковского; Коммент. Е. Витковского, Ли Мэн. Владивосток: Рубеж, 2006.
- Т. 1: Стихотворения и поэмы. - 560 с.
- Т. 2: Рассказы и повести. Мемуары. - 732 с.
- В художественном мире харбинских писателей. Арсений Несмелов: материалы к творческой биографии. В 3-х томах / Сост. и коммент. А. Забияко, В. Резвого, Г. Эфендиевой. Благовещенск: изд. АмГУ, 2015.
- Т. 1. Ч. 1. - 348 с.; Ч. 2. - 395 с.
Музыкальные произведения на стихи поэта
В репертуар Валерия Леонтьева входят две песни композитора Владимира Евзерова на стихи Арсения Несмелова: «Каждый хочет любить» («Песня года 1999») и «Волчья страсть» («Песня года 2000»).
Напишите отзыв о статье "Несмелов, Арсений Иванович"
Примечания
Литература
- А. В. Пигин. Древнерусская и фольклорная легенда в поэме Арсения Несмелова «Прощёный бес». - Труды Отдела древнерусской литературы, 61, 2010.
См. также
- Владиво-Ниппо (ja:浦潮日報)
Ссылки
- в «Сетевой Словесности»
|
||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Несмелов, Арсений Иванович
– Завтра я уже буду в другом, более спокойном месте. И надеюсь, Караффа обо мне на время забудет. Ну, а как же вы, мадонна? Что же станет с вами? Я не могу помочь вам из заключения, но мои друзья достаточно влиятельны. Могу ли я быть полезным вам?– Благодарю вас, монсеньёр, за вашу заботу. Но я не питаю напрасных надежд, надеясь отсюда выйти... Он никогда не отпустит меня... Ни мою бедную дочь. Я живу, чтобы его уничтожить. Ему не должно быть места среди людей.
– Жаль, что я не узнал вас раньше, Изидора. Возможно, мы бы стали добрыми друзьями. А теперь прощайте. Вам нельзя здесь оставаться. Папа обязательно явится пожелать мне «удачи». Вам ни к чему с ним здесь встречаться. Сберегите вашу дочь, мадонна... И не сдавайтесь Караффе. Бог да пребудет с вами!
– О каком Боге вы говорите, монсеньёр? – грустно спросила я.
– Наверняка, уж не о том, которому молится Караффа!.. – улыбнулся на прощание Мороне.
Я ещё мгновение постояла, стараясь запомнить в своей душе образ этого чудесного человека, и махнув на прощание рукой, вышла в коридор.
Небо развёрзлось шквалом тревоги, паники и страха!.. Где находилась сейчас моя храбрая, одинокая девочка?! Что побудило её покинуть Мэтэору?.. На мои настойчивые призывы Анна почему-то не отвечала, хотя я знала, что она меня слышит. Это вселяло ещё большую тревогу, и я лишь из последних сил держалась, чтобы не поддаваться сжигавшей душу панике, так как знала – Караффа непременно воспользуется любой моей слабостью. И тогда мне придётся проиграть, ещё даже не начав сопротивляться...
Уединившись в «своих» покоях, я «зализывала» старые раны, даже не надеясь, что они когда-либо заживут, а просто стараясь быть как можно сильней и спокойнее на случай любой возможности начать войну с Караффой... На чудо надеяться смысла не было, так как я прекрасно знала – в нашем случае чудес не предвиделось... Всё, что произойдёт, я должна буду сделать только сама.
Бездействие убивало, заставляя чувствовать себя всеми забытой, беспомощной и ненужной... И хотя я прекрасно знала, что не права, червь «чёрного сомнения» удачно грыз воспалённый мозг, оставляя там яркий след неуверенности и сожалений...
Я не жалела, что нахожусь у Караффы сама... Но панически боялась за Анну. А также, всё ещё не могла простить себе гибель отца и Джироламо, моих любимых и самых лучших для меня на свете людей... Смогу ли я отомстить за них когда-либо?.. Не правы ли все, говоря, что Караффу не победить? Что я не уничтожу его, а всего лишь глупо погибну сама?.. Неужели прав был Север, приглашая уйти в Мэтэору? И неужели надежда уничтожить Папу всё это время жила только во мне одной?!..
И ещё... Я чувствовала, что очень устала... Нечеловечески, страшно устала... Иногда даже казалось – а не лучше ли было и правда уйти в Мэтэору?.. Ведь кто-то же туда уходил?.. И почему-то их не тревожило, что вокруг умирали люди. Для них было важно УЗНАТЬ, получить сокровенное ЗНАНИЕ, так как они считали себя исключительно одарёнными... Но, с другой стороны, если они по-настоящему были такими уж «исключительными», то как же в таком случае они забыли самую простую, но по-моему очень важную нашу заповедь – не уходи на покой, пока в твоей помощи нуждаются остальные... Как же они могли так просто закрыться, даже не оглядевшись вокруг, не попытавшись помочь другим?.. Как успокоили свои души?..
Конечно же, мои «возмущённые» мысли никак не касались детей, находящихся в Мэтэоре... Эта война была не их войной, она касалась только лишь взрослых... А малышам ещё предстояло долго и упорно идти по пути познания, чтобы после уметь защищать свой дом, своих родных и всех хороших людей, живущих на нашей странной, непостижимой Земле.
Нет, я думала именно о взрослых... О тех, кто считал себя слишком «особенным», чтобы рисковать своей «драгоценной» жизнью. О тех, кто предпочитал отсиживаться в Мэтэоре, внутри её толстых стен, пока Земля истекала кровью и такие же одарённые, как они, толпами шли на смерть...
Я всегда любила свободу и ценила право свободного выбора каждого отдельного человека. Но бывали в жизни моменты, когда наша личная свобода не стоила миллионов жизней других хороших людей... Во всяком случае, именно так я для себя решила... И не собиралась ничего менять. Да, были минуты слабости, когда казалось, что жертва, на которую шла, будет совершенно бессмысленна и напрасна. Что она ничего не изменит в этом жестоком мире... Но потом снова возвращалось желание бороться... Тогда всё становилось на свои места, и я всем своим существом готова была возвращаться на «поле боя», несмотря даже на то, насколько неравной была война...
Долгие, тяжёлые дни ползли вереницей «неизвестного», а меня всё также никто не беспокоил. Ничего не менялось, ничего не происходило. Анна молчала, не отвечая на мои позывы. И я понятия не имела, где она находилась, или где я могла её искать...
И вот однажды, смертельно устав от пустого, нескончаемого ожидания, я решила наконец-то осуществить свою давнюю, печальную мечту – зная, что наверняка никогда уже не удастся по-другому увидеть мою любимую Венецию, я решилась пойти туда «дуновением», чтобы проститься...
На дворе был май, и Венеция наряжалась, как юная невеста, встречая свой самый красивый праздник – праздник Любви...
Любовь витала повсюду – ею был пропитан сам воздух!.. Ею дышали мосты и каналы, она проникала в каждый уголок нарядного города... в каждую фибру каждой одинокой, в нём живущей души... На один этот день Венеция превращалась в волшебный цветок любви – жгучий, пьянящий и прекрасный! Улицы города буквально «тонули» в несметном количестве алых роз, пышными «хвостами» свисавших до самой воды, нежно лаская её хрупкими алыми лепестками... Вся Венеция благоухала, источая запахи счастья и лета. И на один этот день даже самые хмурые обитатели города покидали свои дома, и во всю улыбаясь, ожидали, что может быть в этот прекрасный день даже им, грустным и одиноким, улыбнётся капризница Любовь...
Праздник начинался с самого раннего утра, когда первые солнечные лучи ещё только-только начинали золотить городские каналы, осыпая их горячими поцелуями, от которых те, стеснительно вспыхивая, заливались красными стыдливыми бликами... Тут же, не давая даже хорошенько проснуться, под окнами городских красавиц уже нежно звучали первые любовные романсы... А пышно разодетые гондольеры, украсив свои начищенные гондолы в праздничный алый цвет, терпеливо ждали у пристани, каждый, надеясь усадить к себе самую яркую красавицу этого чудесного, волшебного дня.
Во время этого праздника ни для кого не было запретов – молодые и старые высыпали на улицы, вкушая предстоящее веселье, и старались заранее занять лучшие места на мостах, чтобы поближе увидеть проплывающие гондолы, везущие прекрасных, как сама весна, знаменитых Венецианских куртизанок. Этих единственных в своём роде женщин, умом и красотой которых, восхищались поэты, и которых художники воплощали на веки в свои великолепных холстах.
Я всегда считала, что любовь может быть только чистой, и никогда не понимала и не соглашалась с изменой. Но куртизанки Венеции были не просто женщинами, у которых покупалась любовь. Не считая того, что они всегда были необыкновенно красивы, они все были также великолепно образованы, несравнимо лучше, чем любая невеста из богатой и знатной Венецианской семьи... В отличие от очень образованных знатных флорентиек, женщинам Венеции в мои времена не разрешалось входить даже в публичные библиотеки и быть «начитанными», так как жёны знатных венецианцев считались всего лишь красивой вещью, любящим мужем закрытой дома «во благо» его семьи... И чем выше был статус дамы, тем меньше ей разрешалось знать. Куртизанки же – наоборот, обычно знали несколько языков, играли на музыкальных инструментах, читали (а иногда и писали!) стихи, прекрасно знали философов, разбирались в политике, великолепно пели и танцевали... Короче – знали всё то, что любая знатная женщина (по моему понятию) обязана была знать. И я всегда честно считала, что – умей жёны вельмож хотя бы малейшую толику того, что знали куртизанки, в нашем чудесном городе навсегда воцарились бы верность и любовь...
Одним из представителей когорты поэтов-белогвардейцев считается Арсений Несмелов. Родился он в 8 июня 1889 года в Москве в родовитой дворянской семье. Образование получил, как принято было в те годы, военное. Начал писать, еще обучаясь в Нижегородском Аракчеевском и во Втором Московском кадетских корпусах. В 1915 году выпустил первый сборник стихотворений «Военные странички». Обусловлено это название было тем, что к моменту выхода сборника Арсений уже успел «понюхать порох» в боях Первой мировой. К 1917 году, переломному как для него, так и для многих других поэтов данного периода, он уже имел звание поручика и четыре ордена. Большевистские настроения Несмелов воспринял, как и должно офицеру и дворянину:
…Отважной горсти юнкеров
Ты не помог, огромный город,
Из запертых своих домов,
Из-за окон в тяжелых шторах.
Ты лишь исхода ждал борьбы
И каменел в поту от страха.
И вырвала из рук судьбы
Победу красная папаха.
Всего мгновение, момент
Упущен был - упал со стоном.
И тащится интеллигент
К совдепу с просьбой и поклоном…
Позже Арсений Несмелов был активным деятелем Белой гвардии, воевал под предводительством Колчака и Кашеля. После закрепления власти большевиков, он поселяется в городе Харбине - центре дальневосточной эмиграции. Именно там расцветает его поэтический талант. Он выпускает несколько сборников, стихи Несмелова печатают в западных газетах и журналах, и только родная Россия знает о нем крайне мало. Золотая пора поэта окончилась, когда в 1945 году армия большевиков захватила Харбин. Арсений Несмелов умер в застенках НКВД.
Воля к победе.
Воля к жизни.
Четкое сердце.
Верный глаз.
Только такие нужны Отчизне,
Только таких выкликает час.
Через засеки
И волчьи ямы,
Спешенным строем
Иль на коне.
Прямы, напористы и упрямы -
Только такие нужны стране.
Арсений Иванович Несмелов (Митропольский) родился 8 июня (по ст. стилю) 1889 года в Москве в дворянской семье, прошел обучение во Втором Московском и Нижегородском Аракеевском кадетских корпусах. Первый его сборник стихов и прозы "Военные странички" вышел в 1915 году.
В звании поручика Царской армии А.Несмелов участвовал в боях Первой мировой войны. Осенью 1917 года он принимал участие в московском антибольшевистском восстании юнкеров, жестоко подавленном, которое позже описал в поэме "Восстание". Затем – воевал в рядах Белой гвардии, в войсках адмирала Колчака и Дальневосточной республики. Участвовал в Ледяном походе.
После установления советской власти на Дальнем Востоке А.Несмелов жил во Владивостоке под надзором ОГПУ без права выезда. В 1924 году, заблаговременно узнав о готовившихся новой властью расправах над бывшими белогвардейцами, покинул Родину и через глухую тайгу, через советско-китайскую границу и гаоляновые джунгли сумел добраться до Харбина – главного дальневосточного центра русской эмиграции.
В Харбине поэтический талант Несмелова раскрылся во всей своей силе. По признанию эмигрантских литературных кругов, Несмелов стал одним из лучших русских дальневосточных поэтов. Особую популярность имела его крайне необычная и оттого захватывающая "Баллада о даурском бароне", которая переписывалась и передавалась из рук в руки, как когда-то лермонтовское "На смерть поэта". Стихи Несмелова публиковались не только в изданиях русской эмиграции в Китае, но и в Европе, и даже (в 1927-1929 годах) в советском журнале "Сибирские огни".
Однако вынесенный большевистским режимом приговор все же настиг поэта. После вступления советских войск в Харбин в августе 1945 г. Несмелов был арестован и переправлен в Советский Союз. Жизнь его оборвалась в том же году в тюремной камере НКВД.
Если нынешнее русское сопротивление заключено в основном в печатном слове, в песне, в митинге (правда, даже это толкает власть в страхе принимать все новые законы, ужесточающие ответственность за так называемую ксенофобию, приписываемую этой властью исключительно русским национально мыслящим патриотам), то сопротивление большевистской диктатуре требовало борьбы подлинной, героической, сопряженной с личной гибелью. Воины из Белого стана, сопротивляясь насилию, сознательно шли на смерть. И потому их поэты были выразителями подлинного, героического патриотизма. В их сердцах жила Родина, великая и прекрасная, их патриотизм был глубоко искренним и национально-волевым. Трагедия, пережитая ими, была ничуть не меньшей, чем та, какую переживаем ныне мы. И разве не о нашем времени сказаны эти слова? Ведь это к нам, нынешним, сквозь годы забвения обращается героический, пронзительно-русский поэт Арсений Несмелов:
Арсений НЕСМЕЛОВ
В СОЧЕЛЬНИК
Нынче ветер – с востока на запад,
И по мерзлой маньчжурской земле
Начинает поземка царапать
И бежит, исчезая во мгле.
С этим ветром, холодным и колким,
Что в окно начинает стучать,
К зауральским серебряным елкам
Хорошо бы сегодня умчать.
Над российским простором промчаться,
Рассекая метельную высь,
Над какой-нибудь Вяткой иль Гжатском,
Над родною Москвой пронестись.
И в рождественский вечер послушать
Трепетание сердца страны,
Заглянуть в непокорную душу,
В роковые ее глубины.
Родников ее недруг не выскреб.
Не в глуши ли болот и лесов
Загораются первые искры
Затаенных до сроков скитов?
Как в татарщину, в годы глухие,
Как в те темные годы, когда
В дыме битв зачиналась Россия,
Собирала свои города.
Нелюдима она, невидима.
Темный бор замыкает кольцо.
Закрывает бесстрастная схима
Молодое, худое лицо.
Но и ныне, как прежде когда-то,
Не осилить Россию беде.
И запавшие очи подняты
К золотой Вифлеемской звезде.
Городок уездный, сытый, сонный,
С тихою рекой, с монастырем,
Почему же с горечью бездонной
Я сегодня думаю о нем?
Домики с крылечками, калитки.
Девушки с парнями в картузах.
Золотые облачные свитки,
Голубые тени на снегах.
Иль разбойный посвист ночи вьюжной,
Голос ветра, шалый и лихой,
И чуть слышно загудит поддужный
Бубенец на улице глухой.
Домики подслеповато щурят
Узких окон желтые глаза,
И рыдает снеговая буря.
И пылает белая гроза.
Чье лицо к стеклу сейчас прижато,
Кто глядит в оттаянный глазок?
А сугробы, точно медвежата,
Все подкатываются под возок.
Или летом чары белой ночи,
Сонный садик, старое крыльцо,
Милой покоряющие очи
И уже покорное лицо.
Две зари сошлись на небе бледном,
Тает, тает призрачная тень,
И уж снова колоколом медным
Пробужден новорожденный день.
В зеркале реки завороженной
Монастырь старинный отражен…
Почему же, городок мой сонный,
Я воспоминаньем уязвлен?
Потому что чудища из стали
Поползли по улицам не зря,
Потому что ветхие упали
Стены старого монастыря.
И осталось только пепелище,
И река из древнего русла
Зверем, поднятым из логовища,
В Ладожское озеро ушла.
Тихвинская Божья Матерь горько
Плачет на развалинах одна.
Холодно. Безлюдно. Гаснет зорька.
И вокруг могильна тишина.
Россия! Из грозного бреда
Двухлетней борьбы роковой
Тебя золотая победа
Возводит на трон золотой…
Под знаком великой удачи
Проходят последние дни,
И снова былые задачи
Свои засветили огни.
Степей снеговые пространства,
Лесов голубая черта…
Намечен девиз Всеславянства
На звонком металле щита…
Россия! Десятки наречий
Восславят твое бытие.
Герои подъяли на плечи
Великое горе твое.
Но сила врагов – на закате,
Но мчатся, Святая Земля,
Твои лучезарные рати
К высоким твердыням Кремля!
ПЕРЕХОДЯ ГРАНИЦУ
Пусть дней не мало вместе пройдено,
Но вот не нужен я и чужд,
Ведь вы же женщина – о, Родина! -
И, следовательно, к чему ж
Все то, что сердцем в злобе брошено,
Что высказано сгоряча?
Мы расстаемся по-хорошему,
Чтоб никогда не докучать
Друг другу больше. Все, что нажито,
Оставлю вам, долги простив, -
Все эти пастбища и пажити,
А мне просторы и пути.
Да ваш язык. Не знаю лучшего
Для сквернословий и молитв,
Он, изумительный, – от Тютчева
До Маяковского велик.
Но комплименты здесь уместны ли, -
Лишь вежливость, лишь холодок
Усмешки – выдержка чудесная
Вот этих выверенных строк.
Иду. Над порослью – вечернее
Пустое небо цвета льда.
И вот со вздохом облегчения:
"Прощайте. Знаю. Навсегда".
СПУТНИЦЕ
Ты в темный сад звала меня из школы
Под тихий вяз. На старую скамью,
Ты приходила девушкой веселой
В студенческую комнату мою.
И злому непокорному мальчишке,
Копившему надменные стихи,
В ребячье сердце вкалывала вспышки
Тяжелой, темной музыки стихий.
И в эти дни тепло твоих ладоней
И свежий холод непокорных губ
Казался мне лазурней и бездонней
Венецианских голубых лагун…
И в старой Польше, вкапываясь в глину,
Прицелами обшаривая даль,
Под свист, напоминавший окарину,
Я в дымах боя видел не тебя ль?..
И находил, когда стальной кузнечик
Смолкал трещать, все ленты рассказав,
У девушки из польского местечка
Твою улыбку и твои глаза.
Когда ж страна в восстаньях обгорала,
Как обгорает карта на свече, -
Ты вывела меня из-за Урала
Рукой, лежащей на моем плече.
На всех путях моей беспутной жизни
Я слышал твой неторопливый шаг.
Твоих имен святой тысячелистник,
Как драгоценность, бережет душа.
И если пасть беззубую, пустую,
Разинет старость с хворью на горбе,
Стихом последним я отсалютую
Тебе, золотоглазая, тебе!
* * *
Ловкий ты и хитрый ты,
Остроглазый черт.
Архалук твой вытертый
О коня истерт.
На плечах от споротых
Полосы погон.
Не осилил спора ты
Лишь на перегон.
И дичал все более,
И несли враги
По степям Монголии
До степей Урги.
Гор песчаных рыжики,
Зноя каменок.
О колено ижевский
Поломал клинок.
Но его не выбили
Из беспутных рук.
По дорогам гибели
Мы гуляли, друг!
Раскаленный добела
Отзвенел песок.
Видно, время пробило
Раздробить висок.
Вольный ветер клонится
Замести тропу.
Отгуляла конница
В золотом степу.
В ЭТОТ ДЕНЬ
В этот день встревоженный сановник
К телефону часто подходил,
В этот день испуганно, неровно
Телефон к сановнику звонил.
В этот день, в его мятежном шуме,
Было много гнева и тоски,
В этот день маршировали к Думе
Первые восставшие полки.
В этот день машины броневые
Поползли по улицам пустым,
В этот день… одни городовые
С чердаков вступились за режим.
В этот день страна себя ломала,
Не взглянув на то, что впереди,
В этот день царица прижимала
Руки к холодеющей груди.
В этот день в посольствах шифровали
Первой сводки беглые кроки,
В этот день отменно ликовали
Явные и тайные враги.
В этот день… Довольно, Бога ради!
Знаем, знаем, – надломилась ось:
В этот день в отпавшем Петрограде
Мощного героя не нашлось.
Этот день возник, кроваво вспенен,
Этим днем начался русский гон -
В этот день садился где-то Ленин
В свой запломбированный вагон.
Вопрошает совесть, как священник,
Обличает Мученика тень…
Неужели, Боже, нет прощенья
Нам за этот сумасшедший день?!
* * *
Пели добровольцы. Пыльные теплушки
Ринулись на запад в стукоте колес.
С бронзовой платформы выглянули пушки.
Натиск и победа! или – под откос.
Вот и Камышлово. Красных отогнали.
К Екатеринбургу нас помчит заря:
Там наш Император. Мы уже мечтали
Об освобожденье Русского Царя.
Сократились версты – меньше перегона
Оставалось мчаться до тебя, Урал.
На его предгорьях, на холмах зеленых
Молодой, успешный бой отгрохотал.
И опять победа. Загоняем туже
Красные отряды в тесное кольцо.
Почему ж нет песен, братья, почему же
У гонца из штаба мертвое лицо?
Почему рыдает седоусый воин?
В каждом сердце – словно всех пожарищ гарь.
В Екатеринбурге, никни головою,
Мучеником умер кроткий Государь.
Замирают речи, замирает слово,
В ужасе бескрайнем поднялись глаза.
Это было, братья, как удар громовый,
Этого удара позабыть нельзя.
Вышел седоусый офицер. Большие
Поднял руки к небу, обратился к нам:
- Да, Царя не стало, но жива Россия,
Родина Россия остается нам.
И к победам новым он призвал солдата,
За хребтом Уральским вздыбилась война.
С каждой годовщиной удаленней дата;
Чем она далече, тем страшней она.
СУВОРОВСКОЕ ЗНАМЯ
Отступать! – и замолчали пушки,
Барабанщик-пулемет умолк.
За черту пылавшей деревушки
Отошел Фанагорийский полк.
В это утро перебило лучших
Офицеров. Командир сражен.
И совсем молоденький поручик
Наш, четвертый, принял батальон.
А при батальоне было знамя,
И молил поручик в грозный час,
Чтобы Небо сжалилось над нами,
Чтобы Бог святыню нашу спас.
Но уж слева дрогнули и справа,
Враг наваливался, как медведь,
И защите знамени – со славой
Оставалось только умереть.
И тогда – клянусь, немало взоров
Тот навек запечатлело миг -
Сам генералиссимус Суворов
У святого знамени возник.
Был он худ, был с пудреной косицей,
Со звездою был его мундир.
Крикнул он: "За мной, фанагорийцы!
С Богом, батальонный командир!"
И обжег приказ его, как лава,
Все сердца: святая тень зовет!
Мчались слева, набегали справа,
Чтоб, столкнувшись, ринуться вперед!
Ярости удара штыкового
Враг не снес; мы ураганно шли.
Только командира молодого
Мертвым мы в деревню принесли…
И у гроба – это вспомнит каждый
Летописец жизни фронтовой -
Сам Суворов плакал: ночью дважды
Часовые видели его.
НАША ПАСХА
Метких капель перекличка,
Звонко, звонко бьющих в цель…
Солнце – красное яичко…
Жизнерадостный апрель!
Птицы с юга. Ветер с юга,
Шелк его прохладных струй.
Лапа друга. Сердце друга
Троекратный поцелуй!
Ты ли беден, я ли нищий,
Не снижать же нам полет!
Юность в час тяжелый свищет,
Жизнерадостно поет!
Не наряден? Не обедал?
Разговеемся, дружок!
Для кого ж тогда победа,
Коль не к нам, на бережок?!
Для ленивца с толстым пузом,
С капиталом, с кадыком?
Господам с подобным грузом
Позади идти шажком!
Юность их опережает
Жизни тон она дает,
Волей сердце заряжает
Все атаки отражает,
И вперед!
КТО ПРОТИВ НАС
Ну, соратник, руку!
С новою весною,
С вербой опушившей
Русские поля!..
Ветер новой жизни
Взвился над страною
Вздрогнула, проснулась
Русская земля.
Ну, соратник, в ногу!..
Сплоченные, строем
По дорогам русским
Отобьем мы шаг…
Мы идем к победе
Мы ряды утроим,
Будет юной силой
Опрокинут враг…
Ну, соратник, к счастью!..
К Родине, России,
Ибо, верно, близок
Осиянный час!..
Милые, родные,
Русские, стальные,
Коль Россия с нами
Кто же против нас?!
Я сегодня молодость оплакал,
Спутнику ночному говоря:
"Если и становится на якорь
Юность, как непрочны якоря
У нее! Не брать с собой посуду
И детей, завернутых в ватин…
Молодость уходит отовсюду,
Ничего с собой не захватив.
Верности насиженному месту,
Жалости к нажитому добру -
Нет у юных. Глупую невесту
Позабуду и слезу утру
По утру. И выгляну в окошко.
Станция. Решительный гудок.
Хобот водокачки. Будка. Кошка.
И сигнал прощания – платок.
Не тебе! Тебя никто не кличет.
Слез тебе вослед еще не льют.
Молодость уходит за добычей,
Покидая родину свою!.."
Спутник слушал, возражать готовый.
Рассветало. Колокол заныл.
И китайский ветер непутевый
По пустому городу бродил.
В НИЖНЕУДИНСКЕ
День расцветал и был хрустальным,
В снегу скрипел протяжно шаг.
Висел над зданием вокзальным
Беспомощно нерусский флаг.
Я помню звенья эшелона,
Затихшего, как неживой.
Стоял у синего вагона
Румяный чешский часовой.
И было точно погребальным
Охраны хмурое кольцо.
Но вдруг, на миг, в стекле зеркальном
Мелькнуло строгое лицо.
Уста, уже без капли крови,
Сурово сжатые уста!..
Глаза, надломленные брови,
И между них – его черта,
Та складка боли, напряженья,
В которой роковое есть…
Рука сама пришла в движенье,
И, проходя, я отдал честь.
И этот жест в морозе лютом,
В той перламутровой тиши,
Моим последним был салютом,
Салютом сердца и души!
И он ответил мне наклоном
Своей прекрасной головы…
И паровоз далеким стоном
Кого-то звал из синевы.
И было горько мне. И ковко
Перед вагоном скрипнул снег:
То с наклоненною винтовкой
Ко мне шагнул румяный чех.
И тормоза прогрохотали,
Лязг приближался, пролетел.
Умчали чехи Адмирала
В Иркутск – на пытку и расстрел!
БОРИСУ КОВЕРДЕ
Год глухой… Пора немая.
Самый воздух нем и сер.
Но отважно поднимает
Коверда свой револьвер!
Грозный миг, как вечность длится,
Он грозово напряжен,
И упал цареубийца
Русской пулею сражен…
Русский юноша Иуду
Грозным мщением разит.
Эхо выстрела повсюду
Прокатилось и гремит!
Не одна шумит Варшава,
Громы отзвуки везде!
И приносит подвиг славу
Вам, Борису Коверде…
Как сигнал национальный
Прогремел ваш револьвер,
Показал он путь печальный
Подал знак и дал пример…
И в потемки те глухие
Он сказал своим огнем,
Что жива еще Россия,
Живы мы и не умрем!..
Что идет к победе юность,
Каждый к подвигу готов,
В каждом сердце многострунность
Гордых Русских голосов!..
Голодному камень – привычная доля.
Во лжи родились мы. Смеемся от боли.
Глаза застилает гнилая короста.
Стоять на коленях удобно и просто.
Бессильные слезы у нас в горле комом.
И только для слабых нам правда знакома.
Течет вместо крови по жилам сивуха.
Дыша перегаром, мы сильные духом.
Голодному – хлеба, а вольному – воля!
Рожденные ползать – завидная доля!
СЛОВО И ДЕЛО
Не от голода – от скуки
Кровь сосут из сердца, суки!
Видеть русских на коленях
Очень любит это племя!
Душат Правду ложью злою!
В мозг ползут нечистой тлёю!
Порожденье тьмы и грязи!
Бесовского блуда князи!
Но придет и наше время!
Встанет Родина с коленей!
С глаз коросту! Нечисть – с тела!
Память. Слово. Долг.
И дело.
МОЕМУ НАРОДУ
Иль ты устал, могучий мой народ?
Иль тяготы борьбы хребет тебе сломили?
Упал на дно веков ли, потерявши брод,
И память о тебе развеется подобно горстке пыли?
Твой слышу ропот, но невнятен он.
Врагов твоих насмешки громче. Ликованье – злее.
Врагов, что сокрушал ты испокон…
Ужель сейчас они тебя сильнее?
Воспрянуть! Распрямиться! Задышать!
Их раскидать, как псов смердящих свору!
Или рабом приниженно дрожать,
Не внемля предков горькому укору?
О, мой народ, уставший от борьбы!
Ржавеет щит. И меч тебе не нужен?
Сон. Отдых. Смерть. В подарок от судьбы
Уставшему – быть Воином и Мужем!
ГРЕБНЫЕ ГОНКИ*
Руки вперед, до отказу -
Раз! – и пружиной назад.
По голубому алмазу
Легкие лодки скользят.
Раз! – Поупористей, туже,
Чтобы скачками несло.
Два! – Упирайте упруже
В глубь, молодое весло.
Смокла носатая кепка.
Пот у прищуренных глаз.
Резко, отрывисто, крепко -
Раз! и отчетливей – раз!
Крепостью, мужеством взрослым
Бега берем рубежи.
Раз! Не забрасывай весла.
Два! Направленье держи.
Раз! Напрягается стойко
Воля души и весла,
Чтобы летящая двойка
Первой к победе пришла.
Раз! До отказу, до цели.
Два! Разорвутся тела…
Три! И победно взлетели
Вверх все четыре весла!*
_________
* Стихотворение посвящено гребным гонкам, проводившимся в рамках так называемой "Малой Олимпиады Российской Республики" (фактически – в отборочных соревнованиях на Олимпийские Игры 1936 г., в которых должна была участвовать спортивная делегация "Белой ДВР"). Поэт присутствовал на этих соревнованиях в качестве специального корреспондента газеты "Тихоокеанская звезда" (Хабаровск).
В ЛОМБАРДЕ
В ломбарде старого ростовщика,
Нажившего почёт и миллионы,
Оповестили стуком молотка
Момент открытия аукциона.
Чего здесь нет! Чего рука нужды
Не собрала на этих полках пыльных,
От генеральской Анненской звезды
До риз икон и крестиков крестильных.
Былая жизнь, увы, осуждена
В осколках быта, потерявших имя…
Поблёскивают тускло ордена,
И в запылённой связки их – Владимир.
Дворянства знак. Рукой ростовщика
Он брошен на лоток аукциона,
Кусок металла в два золотника,
Тень прошлого и тема фельетона.
Потрескалась багряная эмаль -
След времени, его непостоянство.
Твоих отличий никому не жаль,
Бездарное, последнее дворянство.
Но как среди купеческих судов
Надменен тонкий очерк миноносца, -
Среди тупых чиновничьих крестов
Белеет грозный крест Победоносца.
Святой Георгий – белая эмаль,
Простой рисунок… Вспоминаешь кручи
Фортов, бросавших огненную сталь,
Бетон, звеневший в вихре пуль певучих,
И юношу, поднявшего клинок
Над пропастью бетонного колодца,
И белый окровавленный платок
На сабле коменданта – враг сдается!
Георгий, он – в руках ростовщика!
Но не залить зарю лавиной мрака,
Не осквернит негодная рука
Его неоскверняемого знака.
Пусть пошлости неодолимый клёв
Швыряет нас в трясучий жизни кузов, -
Твой знак носил прекрасный Гумилёв,
И первым кавалером был Кутузов!
Ты гордость юных – доблесть и мятеж,
Ты гимн победы под удары пушек.
Среди тупых чиновничьих утех
Ты – браунинг, забытый меж игрушек.
Не алчность, робость чувствую в глазах
Тех, кто к тебе протягивает руки,
И ухожу… И сердце всё в слезах
От злобы, одиночества и муки.
Иногда я думаю о том,
На сто лет вперед перелетая,
Как, раскрыв многоречивый том
"Наша эмиграция в Китае",
О судьбе изгнанников печальной
Юноша задумается дальний.
На мгновенье встретятся глаза
Сущего и бывшего, котомок,
Страннических посохов стезя…
Скажет, соболезнуя, потомок:
"Горек путь, подслеповат маяк,
Душно вашу постигать истому.
Почему ж упорствовали так,
Не вернулись к очагу родному?"
Где-то упомянут. Со страницы
Встану. Выжду. Подниму ресницы:
"Не суди. Из твоего окна
Не открыты канувшие дали,
Годы смыли их до волокна,
Их до сокровеннейшего дна
Трупами казненных закидали.
Лишь дотла наш корень истребя,
Грозные отцы твои и деды
Сами отказались от себя,
И тогда поднялся ты, последыш.
Вырос ты без тюрем и без стен,
Чей кирпич свинцом исковыряли,
В наше ж время не сдавались в плен,
Потому что в плен тогда не брали".
И не бывший в яростном бою,
Не ступавший той стезей неверной,
Он усмешкой встретит речь мою
Недоверчиво-высокомерной.
Не поняв друг в друге ни аза,
Холодно разъединим глаза,
И опять – года, года, года,
До трубы Последнего суда!
Андрей Можаев
(литературно-исторический очерк)
Моим детям.
А также - литератору, поэтессе, собирателю русской памяти Елене Семёновой,
прекрасной отважной женщине, воодушевившей автора на этот
свободный очерк.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Арсений Иванович Митропольский (псевд.Несмелов), 1889-1945гг. Родился в Москве, в семье статского советника. Окончил Нижегородский кадетский корпус. Первые публикации стихов - журнал "Нива", 1912г. С августа 1914 года воевал на австрийском фронте, поручик, имел четыре награды. В 1915 году вышла первая книжка стихов и очерков "Военные странички". 1 апреля 1917 года отчислен в резерв по ранению. Участник восстания юнкеров в Москве против большевистской власти. С 1918 года - офицер армии адмирала Колчака. Одно время был адьютантом коменданта г.Омска. Участник Сибирского Ледяного похода. С 1920 по 1924 годы жил во Владивостоке. Там же издан сборник стихов. Скрываясь от ареста и расстрела ушёл в Китай с помощью карты, данной ему В.Арсеньевым. С тех пор жил в Харбине, где издавались все его книги. Стал известнейшим во всей эмиграции поэтом. Вёл переписку с М.Цветаевой. На Родине был известен очень узкому кругу поэтов, среди которых - Пастернак. В сентябре 1945 года арестован и вскоре погиб в тюрьме под Владивостоком.
Его, дворянина и москвича, называли «Бояном русского Харбина». Он - ярчайший поэт не одной эмиграции, но всей нашей литературы. И не его вина в том, что до сего дня немногие знают о нём. В отличие от своего современника Николая Гумилёва, такого же отчаянно храброго офицера и ближайшего по духу поэта, Арсений Несмелов (Митропольский), поручик суворовского Фанагорийского полка, не успел утвердить своё поэтическое имя до Отечественной германской войны и революции. Это состоялось позже. И советская власть сделала всё для того, чтобы поэзия её врага, участника восстания юнкеров в Москве и Сибирского Ледяного похода, офицера войск Колчака, никогда не дошла до умов и сердец подданных. Но вопреки всему эта поэзия становилась известной - пусть даже небольшому до сих пор числу людей.
Судьба распорядилась так, что я впервые услышал эти огненные строки в конце шестидесятых годов, ещё в полудетском возрасте, от своего отца. И часто слышал их после, взрослел с ними, постигал ту неискажённую историческую реальность, стоявшую за ними. Отец мой в минуты отдыха и настроения любил декламировать из близких ему по духу поэтов. Читал он замечательно и так же замечательно пел. И вот в ряд со строками романса «Гори, гори, моя звезда», навеки связанного с именем адмирала Колчака, обязательно ставились им и строфы стихов Несмелова. И те поэтические образы навсегда вошли в моё воображение.
Помню будто вчера: поздний летний вечер, отец за рулём своей любимой «Волги», его густейшая, с проседью уже, шевелюра, борода и стрелы усов. Мимо, за окнами, летят поля, перелески. Промахнули мост через чеховскую Лопасню. Уже скоро - Ока…
Глубокий баритон, переходящий в бас – отец самозабвенно выводит о сияющей заветной «звезде любви». Следом читает из Гумилёва о просолённых ветрами молодых капитанах бригов с кружевными манжетами вкруг запястий. Или вот это - «Суворовское знамя» четырежды награждённого поручика Митропольского (поэтическое имя – Несмелов) о боях той Отечественной германской:
"Отступать! - и замолчали пушки,
Барабанщик-пулемёт умолк.
За черту пылавшей деревушки
Отошел Фанагорийский полк.
В это утро перебило лучших
Офицеров. Командир сражён.
И совсем молоденький поручик
Наш, четвёртый, принял батальон.
А при батальоне было знамя,
И молил поручик в грозный час,
Чтобы Небо сжалилось над нами,
Чтобы Бог святыню нашу спас.
Но уж слева дрогнули и справа, -
Враг наваливался, как медведь,
И защите знамени - со славой
Оставалось только умереть.
И тогда, клянусь - немало взоров
Тот навек запечатлело миг,
Сам генералиссимус Суворов
У святого знамени возник.
Был он худ, был с пудреной косицей,
Со звездою был его мундир.
Крикнул он: "За мной, фанагорийцы!
С Богом, батальонный командир!"
И обжёг приказ его, как лава,
Все сердца: святая тень зовёт!
Мчались слева, набегали справа,
Чтоб, столкнувшись, ринуться вперёд!
Ярости удара штыкового
Враг не снёс; мы ураганно шли,
Только командира молодого
Мёртвым мы в деревню принесли...
И у гроба - это вспомнит каждый
Летописец жизни фронтовой -
Сам Суворов плакал: ночью дважды
Часовые видели его".
После, спустя годы, я пойму, почему такой ряд из любимых стихотворений выстраивал отец: Несмелов принадлежит традиции поэтов-воинов, где в едином строю - Денис Давыдов, Бестужев-Марлинский, Лермонтов, Гумилёв и ещё многие. Правда, опыт последних отягощён горьким знанием уже войны гражданской, самой страшной из войн. Хотя у многих наших классиков было предощущение этого.
В Советском Союзе о Несмелове узнали более-менее полно в кругу литераторов и офицеров Дальнего Востока после окончания Второй мировой, после победы над Японией. Как порой складываются судьбы! Поэт был арестован в Харбине и казнён в сорок пятом году в тюрьме под Владивостоком. И после этого на Родине стали зачитываться его стихами, заучивать с голоса друг от друга. Переписывать и хранить их значило обрекать себя на лагерные сроки.
И ещё парадокс – стихи поэта узнавали благодаря выдающемуся писателю Всеволоду Никаноровичу Иванову, которого сам Несмелов считал отступником Белой идеи. Дело в том, что Иванов, морской офицер и бывший сотрудник пресс-службы адмирала Колчака, вернулся, признал власть. И он же нёс живые знания об эмиграции, о прошлом и ту поэзию. От Иванова она расходилась в кругу доверенных людей, передавалась дальше. Сам же Несмелов нелицеприятно описал своё отношение к бывшему соратнику. Здесь выразились противоречия в судьбах – время было жестокое, не склоняло к компромиссам. Не нам сейчас судить тех людей: кто перед кем был прав или неправ, насколько более прав или насколько менее? Нам лучше бы задуматься о самих себе… Вот эти стихи Иванову:
"Мы - вежливы. Вы попросили спичку
И протянули чёрный портсигар,
И вот огонь - условие приличья -
Из зажигалки надо высекать.
Дымок повис сиреневою ветвью.
Беседуем, сближая мирно лбы,
Но встреча та - скости десятелетье! -
Огня иного требовала бы…
Схватились бы, коль пеши, за наганы,
Срубились бы верхами, на скаку…
Он позвонил. Китайцу: «Мне нарзану»!
Прищурился – «и рюмку коньяку»…
Вагон стучит, ковровый пол качая,
Вопит гудка басовая струна.
Я превосходно вижу: ты скучаешь,
И скука, парень, общая у нас.
Пусть мы враги, - друг другу мы не чужды,
Как чужд обоим этот сонный быт.
И непонятно, право, почему ж ты
Несёшь ярмо совсем иной судьбы?
Мы вспоминаем прошлое беззлобно.
Как музыку. Запело и ожгло…
Мы не равны, - но всё же мы подобны,
Как треугольники при равенстве углов.
Обоих нас качала непогода.
Обоих нас, в ночи, будил рожок…
Мы - дети восемнадцатого года,
Тридцатый год. Мы прошлое, дружок!
Что сетовать! Всему приходят сроки,
Исчезнуть, кануть каждый обряжён,
Ты в чистку попадёшь в Владивостоке,
Меня безптичье съест за рубежом.
Склонил ресницы, как склоняют знамя,
В былых боях изодранный лоскут…
- Мне, право, жаль, что вы ещё не с нами.
- Не лгите: с кем? И… выпьем коньяку".
Мой отец, морской в ту пору офицер-инженер и молодой литератор, служил с сорок седьмого по пятьдесят третий годы в Порт-Артуре,строил взлётную полосу аэродрома морской авиации и там же встретил корейскую войну. Затем уже добился отставки и целиком погрузился в журналистику, писательство уже во Владивостоке. Тогда и познакомился с Всеволодом Никаноровичем, который надолго стал его старшим – по годам и опыту – другом. И от этого друга узнавалось очень многое запретное или оболганное. В том числе – поэзия зарубежья. А часть этого знания позже передавалась мне.
Затем дружба их продолжилась в Хабаровске. Культурная столица Дальнего Востока, в ту пору населённая ссыльной или выпущенной из лагерей интеллигенцией, да осколками родового казачества, надолго сохранила память о двух статных офицерах-писателях с идеальной выправкой, часто гулявших за беседами по бульварам, с сопки на сопку. Засиживались в ресторанах, танцевали под оркестр в Доме офицеров ДВО, что рядом с парком, в окружении старых нескладно-«длинноруких» ильмов у самого утёса над Амуром. Были оба острословы, несдержанны на язык и слыли «грозой дамских сердец». Отцу ничего не стоило, допустим, на людях, а тем более – в женском обществе, прочесть такое хотя бы стихотворение Несмелова:
Спутнице.
"Ты в тёмный сад звала меня из школы
Под тихий вяз, на старую скамью.
Ты приходила девушкой весёлой
В студенческую комнату мою.
И злому непокорному мальчишке,
Копившему надменные стихи,
В ребячье сердце вкалывала вспышки
Тяжёлой, тёмной музыки стихий.
И в эти дни тепло твоих ладоней
И свежий холод непокорных губ
Казался мне лазурней и бездонней
Венецианских голубых лагун…
И в старой Польше, вкапываясь в глину,
Прицелами обшаривая даль,
Под свист, напоминавший окарину,
Я в дымах боя видел не тебя ль…
И находил, когда стальной кузнечик
Смолкал трещать, все ленты рассказав,
У девушки из польского местечка -
Твою улыбку и твои глаза.
Когда ж страна в восстаньях обгорала,
Как обгорает карта на свече,
Ты вывела меня из-за Урала
Рукой, лежащей на моём плече.
На всех путях моей беспутной жизни
Я слышал твой неторопливый шаг.
Твоих имён святой тысячелистник -
Как драгоценность - бережёт душа!
И если пасть беззубую, пустую
Разинет старость с хворью на горбе,
Стихом последним я отсалютую
Тебе, золотоглазая, тебе"!
Вскоре Иванов уехал в Москву. Власти на самом верху пользовались его именем как ширмой, как примером «гуманного отношения к раскаявшимся врагам». Но по сути - посадили в известную «золотую клетку». Официально возвели в классики. Устраивались широкие и шумные встречи с читателями и пр. Но романы и мемуарные работы не публиковали. В шестьдесят первом году «Литературная газета» в материале молодого тогда редактора Инны Петровны Борисовой упомянула о тех работах из письменного стола автора. Последовали мгновенный звонок самого министра культуры Фурцевой, истерика в стиле коммунальной кухонной склоки: «У советских писателей не может быть неизданных романов!».
Чуть позже оказался в Москве и мой отец. Это случилось очень вовремя. В Хабаровске руководители краевого отделения Союза писателей собрали на него дело об антисоветчине. Ею объявлены были очерки, первые повести и рассказы, где он отстаивал право человека быть хозяином своего дела жизни, выступал против хищнической вырубки кедровников, уничтожения молевым сплавом таёжных рек, вымирания, спаивания малых народов и многое другое. Также, обвинялся он и в пропаганде, цитировании запрещённой литературы. Отцу, сыну «врага народа», умученного ещё в тридцать пятом году за вольнолюбие и едкие шутки в адрес Сталина и прочих вожаков, ему, до самой войны лишённому гражданских прав, ни на какое снисхождение рассчитывать не приходилось. К счастью, дело в производство запустить не успели. Отец получил неожиданный вызов от едва не всесильного тогда в кинематографо-идеологической системе режиссёра и директора «Мосфильма» Ивана Пырьева. Вторая, ещё более опасная, попытка дозреет уже ко второй половине семидесятых. Тогда её пресечёт лично Брежнев.
Но вернусь к началу шестидесятых. В столице продолжилась дружба отца с Ивановым. А вскоре состоится их поездка в бывший Екатеринбург-Свердловск. Удивительно, что они повторили - пусть и в другое время, в иных обстоятельствах и даже в обратном порядке – тот самый путь любимого поэта Арсения Несмелова. Именно в родной первопрестольной дал первый бой красным поручик-фанагориец двадцати восьми лет Арсений Митропольский. Отсюда его путь лежал на Урал уже в звании белого офицера. Москва - родина Белого Дела.
"Мы - белые. Так впервые
Нас крестит московский люд.
Отважные и молодые
Винтовки сейчас берут.
И натиском первым давят
Испуганного врага,
И вехи победы ставят,
И жизнь им недорога.
К Никитской, на Сивцев Вражек!
Нельзя пересечь Арбат.
Вот юнкер стоит на страже,
Глаза у него горят.
А там, за решёткой сквера,
У чахлых осенних лип,
Стреляют из револьвера,
И голос кричать охрип.
А выстрел во тьме - звездою
Из огненно-красных жил,
И кравшийся предо мною
Винтовку в плечо вложил.
И вот мы в бою неравном,
Но твёрд наш победный шаг -
Ведь всюду бежит бесславно,
Везде отступает враг.
Боец напрягает нервы,
Восторг на лице юнца,
Но юнкерские резервы
Исчерпаны до конца!
- Вперёд! Помоги, Создатель! -
И снова ружьё в руках.
Но заперся обыватель,
Как крыса, сидит в домах.
Мы заняли Кремль, мы - всюду
Под влажным покровом тьмы,
И всё-таки только чуду
Вверяем победу мы.
Ведь заперты мы во вражьем
Кольце, что замкнуло нас,
И с башни кремлёвской - стражам
Бьёт гулко полночный час".
Та поездка отца с Ивановым на Урал оказалась особо знаменательной. Один ехал по делам на киностудию; другой – на читательскую конференцию.
Екатеринбург-Свердловск – город, несущий тяжесть одного из жесточайших исторических преступлений. Когда-то в составе войск генерала Каппеля его освобождал Арсений Несмелов.
"Пели добровольцы. Пыльные теплушки
Ринулись на запад в стукоте колёс.
С бронзовой платформы выглянули пушки.
Натиск и победа! или - под откос.
Вот и Камышлово. Красных отогнали.
К Екатеринбургу нас помчит заря:
Там наш Император. Мы уже мечтали
Об освобожденьи Русского Царя.
Сократились вёрсты, - меньше перегона
Оставалось мчаться до тебя, Урал.
На его предгорьях, на холмах зелёных
Молодой, успешный бой отгрохотал.
И опять победа. Загоняем туже
Красные отряды в тесное кольцо.
Почему ж нет песен, братья, почему же
У гонца из штаба мёртвое лицо?
Почему рыдает седоусый воин?
В каждом сердце - словно всех пожарищ гарь.
В Екатеринбурге, никни головою,
Мучеником умер кроткий Государь.
Замирают речи, замирает слово,
В ужасе бескрайнем поднялись глаза.
Это было, братья, как удар громовый,
Этого удара позабыть нельзя.
Вышел седоусый офицер. Большие
Поднял руки к небу, обратился к нам:
- Да, Царя не стало, но жива Россия,
Родина Россия остаётся нам.
И к победам новым он призвал солдата,
За хребтом Уральским вздыбилась война.
С каждой годовщиной удалённей дата;
Чем она далече, тем страшней она".
В Свердловске Иванова, как мэтра, пригласили к первому секретарю обкома, а он настоял и на приглашении моего отца. Далее передаю, как слышал, запомнил и рассказываю уже своим детям.
Хозяином области был в ту пору Кириленко, свояченник Брежнева и вскорости - виднейший член Политбюро. В своём кабинете он произнёс приветственную речь, воздал славу воспитующей силе «советской литературы» и под конец предложил экскурсию по городу славных революционных традиций. Поинтересовался, что гости хотели бы увидеть? Иванов назвал Ипатьевский дом. Повисла пауза. Следом Кириленко снял трубку телефона, вызвал заведующего отделом культуры. Вошёл услужливого вида человек, далеко не старый. Фамилия его оказалась Ермаш – скоро он станет долголетним председателем Госкино СССР. Хозяин спросил, в каком состоянии дом и можно ли показать его московским гостям? Ермаш замялся – ключей у них нет. – Так, где же они? – Должны быть у сторожа. – А сторож где? – Там живёт недалеко. – Так свяжитесь и вызовите. Пусть ждёт наготове. – Слушаюсь. – Да, и распорядитесь подать гостям машину. Чтобы отвезли и доставили затем, куда потребуют.
Но Иванов от машины отказался. Ему хотелось пройти пешком, поглядеть город. А дорогу к дому он отлично помнит. Кириленко слегка удивился и обрадовался: так он бывал у них? – Да. В последний раз - в восемнадцатом году… Первый секретарь удивился пуще: - Вы, наверное, были ещё до захвата белыми? – Нет. Я был как раз после, с войсками Каппеля. Меня командировал адмирал Колчак для информирования о работе группы следователя Соколова…
После этих слов установилась уже полная долгая тишина.
Сторож ожидал на месте и дом отпер. Тот стоял ещё совершенно нетронутый, как в восемнадцатом, но пустой – все вещи и мебель давно вынесли. Всеволод Никанорович прошёл по комнатам, рассказал, кто и где размещался, где находилась внутренняя охрана, и как всё выглядело.
А затем они спускались в подвал по тем самым ступеням. Отец часто вспоминал, как тогда начинало то биться, то замирать сердце.
Мрачный низкий подвал был весь пропитан ощущением злодейства. Даже спёртый сырой воздух давил, говоря об этом. Что уж сказать о стенах, густо выщербленных пулями? Иванов показал, кто и где из казнённых сидел, стоял, откуда стреляли. Но более всего поражала, буквально - кричала, дверь заднего хода, ведущая во двор. Именно через неё выносили тела, изрешеченные пулями и, для надёжности, исколотые затем штыками, и забрасывали в кузов заведённого грузовика. Так вот, эту дверь изнутри обили жестью. Жесть была вспучена, выкрашена чернейшим кузбасслаком. И это напоминало приставленную к стене крышку гроба.
У Несмелова есть небольшое, но чрезвычайно ёмкое по смыслу стихотворение. Оно являет типическое отношение интеллигенции к Царской власти и Семье до революции и в ходе её. А завершающая строка-слово-вскрик выражает ценностный переворот исключительной исторической важности, что происходил в умах и сердцах после казни. Переворот, происходящий всё шире и в наши дни и разводящий личные позиции людей в одобрении, приятии, оправдании события и всего стоящего за ним, или же в отмежевании и осуждении. Думается - чем дальше, тем серьёзней будет этот личностный мировоззренческий развод в обществе. Из него уже вырастает сегодняшнее постижение прошлого, а следом - образ мыслей, поступков, ценностные ориентиры. То есть, то, что во многом определит будущее.
"Мне не жаль нерусскую царицу.
Сердце не срывается на бег
И не бьётся раненою птицей,
Слёзы не вскипают из-под век.
Равнодушно, не скорбя, взираю
На страданья слабого царя.
Из подвала свет свой разливает
На Россию новая заря.
Их кожанок скрип неотвратимый:
"Мы сейчас вас будем убивать..."
Можно в сердце...лоб...а можно мимо -
Дав надежду, сладко поиграть...
Мне не жалко сгинувшей державы.
Губы трогает холодный, горький смех...
Лишь гвоздем в груди ненужно-ржавым:
"Не детей...не их...какой ведь грех..."
И возлюби"!
Да, после этого убийства стоял в сёлах женский плач по невинному царевичу, по красавицам-девушкам, великим княжнам. Да, исповедник Патриарх Тихон от лика Церкви назвал злодеяние своим именем, анафематствовал новую власть.
Приведу в пример один факт, о котором слышал от отца и который сегодня, может быть, никому уже не известен. Однажды, после публикации Ивановым некоторых мемуарных отрывков, ему пришла бандероль с Дальнего Востока. Старый большевик, приняв писателя за «своего», прислал тетрадь воспоминаний. Он состоял в охране Ипатьевского дома и участвовал в уничтожении тел убитых. Этот же человек нёс охрану у Ганиной ямы, где в лесу жгли тела на огромных кострах, поливая кислотой для усиления жара и разложения. Затем оставшееся предполагали сбросить в штольни и взорвать. Пока это длилось, вдруг исчез шофёр. Было приказано отыскать. Рассказчик нашёл его в ближайшем к месту селении. Тот сидел на улице в окружении мужиков, пил самогонку и рассказывал о казни. Мужики стояли с мрачно-угрожающим видом. Подоспевший рассказчик вынул наган, приказал разойтись и увёл полупьяного шофёра, опасаясь, что его растерзают. Прибыв, доложил о случившемся. Команда мгновенно стала тушить костры. Остававшиеся части тел забросили в кузов и уехали в ночь. В бездорожье заехали неизвестно куда на открытую местность, забуксовали. Над округой уже нависала недалёкая канонада каппелевцев. Тогда решили закопать останки. Выбрали безликое место, захоронили, замаскировали по мере возможности свежевскопанное. Завершал рассказчик словами о том, что места этого совершенно не запомнил в темноте и сумятице, никаких особых ориентиров там не было, и вряд ли возможно теперь его отыскать.
Трудно сейчас проверить, правду ли писал этот человек. Но есть материалы следствия группы Соколова, за которыми долгое время вела охоту советская разведка, из-за которых многие, включая самого Соколова, поплатились жизнями. Есть бесчисленные и нескончаемые попытки фальсификации всего, связанного с этими событиями. И есть, наконец, высказывание Ленина после потери Екатеринбурга о том, что могилу Царя никогда не найдут...
В самом же конце своего послания старый большевик недоумевал, отчего эти его мемуары не желает печатать ни один журнал. Просил способствовать в том Всеволода Никаноровича. Даже до конца своей жизни тот человек не понял ничего и по-прежнему считал событие революционным геройским и справедливым возмездием!
Конечно, это убийство было ритуально-символическим сразу для всех сил, сторон, как бы кто ни отрицал этого теперь даже среди церковных начальников. Ведь, Государя мало того, что вынудили с нарушением закона оставить трон, но с него Архиерейским собором так и не было снято Таинство Миропомазания на Царство. Он оставался лицом сакральным. Не случайно Ленин проговаривался о том, что в то время единственно гибельным для их власти стал бы призыв к восстановлению Царства. Потому с такой яростью истреблялись люди за молебны иконе Божьей Матери «Державной», истреблялись сами эти иконы и все хранившие их и просто называвшие себя монархистами.
Увы, не смогли белые вожди поднять такой стяг. Было много среди них либералов-республиканцев. Хотя и верные присяге, трону тоже были: генералы Дитерихс, Марков, Дроздовский, Келлер и другие. Было множество строевых офицеров-монархистов. А с другой стороны, не поднимали этот стяг оттого, что в правительствах – у того же Колчака – находились и кадеты, и эсеры. Ведь шла война идеологий и шла она в условиях пропаганды большевизма. Главным вопросом стоял земельный, крестьянский. От него зависело, за кем пойдёт громада. Ленин в своём декрете цинично украл и использовал аграрную программу эсеров, а самих эсеров раздавил. Эта программа обещала социализацию, то есть наделение землей по едокам и паям работников с выплатой ими налога. На самом же деле большевики вводили по приходу к власти продразвёрстку, вымаривающую селян, и рабские коммуны. В центральной России мужики скоро узнали цену лозунгам большевиков. Но было уже поздно – любое недовольство подавлялось казнями. Ну, а за Волгой, Уралом этого на личном опыте ещё не знали и охотно прислушивались к соблазну. Для того и нужны были Колчаку эсеры с их деятельностью и влиянием.
Но даже и не это явилось главной причиной отказа от лозунга монархизма, отказа временного до созыва и решений Всероссийского Учредительного собрания. Дело в том, что Белым силам отечественная буржуазия отказала в финансовой и прочей поддержке. Не имели они опоры и на индустриальные центры, не могли долго противостоять большевикам без помощи в снабжении, вооружении странами-союзницами России по Антанте. А те категорически не принимали Царства и вдобавок имели свои цели. Пока белые войска были слабы и безоружны, помощь шла. Как только назревало полное сокрушение красной власти, помощь пресекалась, и делалось всё возможное по разобщению фронтовых действий Белых армий. Выставлялись условия будущего: прямое вмешательство во внутреннюю политику, концессии, владение ресурсами и даже территориальные претензии. Вожди белых на такие соглашения не шли. И армии, без боеприпаса, откатывались с последнего победного рубежа. Большевистская же пропаганда среди населения обвиняла белых именно в том, от чего они отказывались, и пугала новым крепостным правом и казнями. Хотя именно большевики делали то, в чём обвиняли противника. Так, уже с самого начала шла тайная распродажа через эмиссаров сокровищ Державы по самым бросовым ценам. Решили продать регалии и Большую Императорскую корону. Когда президент Соединённых Штатов Вудро Вильсон узнал об этом, срочно обратился к стране не идти на сделку. Такая скупка исторических святынь попавшей в беду России обернётся несмываемым позором для всей нации до конца времён! И этот его призыв был услышан по всему миру. Пришлось Ленину, Троцкому и всей компании на время приутихнуть.
Но в конце-концов, Антанта всё же столковалась с красными, вывела войска со своих без того ограниченных приморских плацдармов и прекратила помощь белым под залог введения большевиками либерального НЭПа, конвертируемого червонца и свободной торговли, движения капиталов.
Вот такими в общих чертах были реальные условия тех лет. Знание о них искажается официозом до сих пор. Или же – замалчивается. И вот в чём была особая ценность таких людей, как Всеволод Никанорович Иванов, знавший предмет досконально и раскрывавший по мере возможностей эту подоплёку в самые «молчаливые» годы. Ну, а что уж говорить о поэзии Несмелова? Она выразила то, о чём в подсоветской печати сказать было невозможно. И даже более – не к нам ли, сегодняшним, тоже обращены эти строки стихотворения «Цареубийцы»:
"Мы теперь панихиды правим,
С пышной щедростью ладон жжём,
Рядом с образом лики ставим,
На поминки Царя идём.
Бережём мы к убийцам злобу,
Чтобы собственный грех загас,
Но заслали Царя в трущобу
Не при всех ли, увы, при нас?
Сколько было убийц? Двенадцать,
Восемнадцать иль тридцать пять?
Как же это могло так статься -
Государя не отстоять?
Только горсточка этот ворог,
Как пыльцу бы его смело:
Верноподданными - сто сорок
Миллионов себя звало.
Много лжи в нашем плаче позднем,
Лицемернейшей болтовни,
Не за всех ли отраву возлил
Некий яд, отравлявший дни.
И один ли, одно ли имя -
Жертва страшных нетопырей?
Нет, давно мы ночами злыми
Убивали своих Царей.
И над всеми легло проклятье,
Всем нам давит тревога грудь:
Замыкаешь ли, дом Ипатьев,
Некий давний кровавый путь"?!
Таким же точно путём в те годы узнавалась и подоплёка захвата, гибели адмирала Колчака, этого самого для большевиков опасного после Государя стяга-имени. Как трудно, как больно в этом перевёрнутом зазеркальном мире разгребать горы лжи, пропитанные совсем ещё горячей нечужой кровью! Но без этого нет будущего, а есть один длящийся кошмар-обморок.
Белой армии оставался всего бросок за Волгу на Москву – и война окончена. Всё подготовлено, в войсках высочайший боевой дух. Красные части деморализованы, разбегаются. Троцкий носится на своём бронепоезде с карательными интеротрядами вдоль линии фронта, устраивает расстрелы-децимации. Ленин с ЦИКом, готовясь к бегству, грозит оставить за собой «выжженную землю».
И вот в тот главный час, когда разворачивалось общее наступление, союзники прекратили боеснабжение фронта. И это несмотря на то, что в банке Японии находилась под гарантии перевода средств некоторая часть золотого запаса Империи, предназначенная именно для снабжения! Но для Японии, допустим, всегда было важней добиться прав на владение Дальним Востоком. А в этом им отказывали. Адмирал Колчак, один из самых оболганных в новой истории людей, не считал себя вправе даже растрачивать основную часть золотого запаса, которая находилась в эшелоне при Ставке и предназначалась для восстановления экономики страны после победы. И вот этим его понятием чести воспользовались и большевики и «союзники». Принцип действия последних наглядно будет сформулирован позже, в сорок пятом году. На совещании у Черчилля решался вопрос о выдаче Сталину на массовую казнь семидесяти тысяч казаков с жёнами, детьми и стариками в лагере под Лиенцем. Тогда смысл этой выдачи сформулировали так: «Появилась возможность уничтожить одну часть русских варваров руками другой части русских варваров». Что и состоялось.
Вернёмся в девятнадцатый год. Теряя боезапас, белые части откатывались за Урал. Начинался Великий Сибирский Ледяной поход. Шли с боями, в жестокие морозы, впроголодь. Вязкие снега, амуниция изношена, боеприпасов почти нет. Реквизиции, схватки с красными партизанами. Уже скоро эти легковерные мужики взвоют по-звериному от «своей» долгожданной власти… Страшен был этот путь через всю Сибирь, сквозь ледяные торосы Байкала на Читу. Арсений Несмелов оставил о нём ряд своих стихов. А вот это, о верной винтовке №5729671, прямо стоит в традиции тех произведений Пушкина, Лермонтова, что рассказывают через образы оружия о воинском духе героя – древнейшая, восходящая к эпосу традиция:
"Две пули след оставили на ложе,
Но крепок твой берёзовый приклад.
...Лишь выстрел твой звучал как будто строже,
Лишь ты была милее для солдат!
В руках бойца, не думая о смене,
Гремела ты и накаляла ствол
У Осовца, у Львова, у Тюмени,
И вот теперь ты стережёшь Тобол.
Мой старый друг, ты помнишь бой у Горок,
Ялуторовск, Шмаково и Ирбит?
Везде, везде наш враг, наш злобный ворог
Был мощно смят, отброшен и разбит!
А там, в лесу? Царапнув по прикладу,
Шрапнелька в грудь ужалила меня...
Как тяжело пришлось тогда отряду!
Другой солдат владел тобой два дня...
Он был убит. Какой-то новый воин
Нашёл тебя и заряжал в бою,
Но был ли он хранить тебя достоин
И понял ли разительность твою?
Иль, может быть, визгливая граната
Разбила твой стальной горячий ствол...
...И вот нашел тебя в руках солдата,
Так случай нам увидеться привёл!
Прощай опять. Блуждая в грозном круге,
Я встречи жду у новых берегов,
И знаю я, тебе, моей подруге,
Не быть в плену, не быть в руках врагов"!
Во время этого долгого отступления большевистская верхушка провела через свою агентуру тайные переговоры с организаторами политического заговора против адмирала, с английскими военными советниками, французом генералом Жаненом и прочим командованием чешского корпуса бывших военнопленных, что после октября встали под знамёна Белой армии. Ленин предложил: в обмен на выдачу Колчака – свободный выход на родину с оружием и тем золотом России, что находилось при Ставке. И чехи идут на это - воспользовались тем, что русские части вязли в боях и не успели бы стянуться и спасти своего Верховного Правителя. Его арестовали, заперли в вагоне.
Да, он бывал жесток – далеко не жесточе большевиков – в той всероссийской битве, но умел и любить Родину, любить женщину. Он, Колчак, боевой адмирал, учёный, разработчик знаменитой мины и минной тактики, послужившей Отечеству и в следующую войну! Он, прославленный горькой своей любовью к нежданно встреченной когда-то женщине, и высоко пронёсший эту любовь, эту негасимую звезду его романса, до смертного конца! Он – полярный мореход, исследователь, спасатель, овеянный героикой Севера! Те романтические походы приносили высочайшую славу морякам, их Отечеству. Мир грезил Арктикой. Как прекрасны строки о ней Несмелова!
"...К полюсу. Сердце запороша
Радостью, видит, склонясь над картой:
В нежных ладонях уносит шар
Голубоглазая Сольвейг - Арктика.
Словно невеста, она нежна,
Словно невеста, она безжалостна.
Словно подарок несёт она
Этот кораблик, воздушный, парусный.
Шепчет: "Сияньем к тебе сойду,
Стужу поставлю вокруг, как изгородь.
Тридцать три года лежать во льду
Будешь, любимый, желанный, избранный!"
Падает шар. На полгода - ночь.
Умерли спутники. Одиночество.
Двигаться надо, молиться, но
Спать, только спать бесконечно хочется.
"Голову дай на колени мне,
Холодом девственности согрейся.
Тридцать три года во льду, во сне
Ждать из Норвегии будешь крейсера!"…
Итак, национальный герой был самым подлым образом куплен-продан за русские же деньги иноземцами, которым он доверил оружие, и «благодетелями человеческого рода», прекраснодушными якобы «кремлёвскими мечтателями», взахлёб расхваленными очень многими бойкими, самыми популярными в мире перьями.
Но ещё до отправки пленённого Колчака случилось событие, ставшее легендой Белого Движения. И такой же легендарностью оно овеяло имя офицера и поэта Несмелова-Митропольского. Совершенно непонятным образом он сумел прорваться на оцепленный перрон и проститься с адмиралом. Арсений Несмелов оказался тем человеком, который от лица всего русского воинства в последний раз отдал герою честь.
Помню, с какой сдержанной силой отец часто читал по памяти вот это стихотворение, и какое впечатление производило оно на меня, мальчишку, в смазанные времена торжествующей лжи и ничтожества:
В Нижнеудинске
"День расцветал и был хрустальным,
В снегу скрипел протяжно шаг.
Висел над зданием вокзальным
Беспомощно нерусский флаг.
И помню звенья эшелона,
Затихшего, как неживой.
Стоял у синего вагона
Румяный чешский часовой.
И было точно погребальным
Охраны хмурое кольцо,
Но вдруг, на миг, в стекле зеркальном
Мелькнуло строгое лицо.
Уста, уже без капли крови,
Сурово сжатые уста!..
Глаза, надломленные брови,
И между них - Его черта, -
Та складка боли, напряженья,
В которой роковое есть…
Рука сама пришла в движенье,
И, проходя, я отдал честь.
И этот жест в морозе лютом,
В той перламутровой тиши, -
Моим последним был салютом,
Салютом сердца и души!
И он ответил мне наклоном
Своей прекрасной головы…
И паровоз далёким стоном
Кого-то звал из синевы.
И было горько мне. И ковко
Перед вагоном скрипнул снег:
То с наклонённою винтовкой
Ко мне шагнул румяный чех.
И тормоза прогрохотали -
Лязг приближался, пролетел,
Умчали чехи Адмирала
В Иркутск - на пытку и расстрел"!
После этого Несмелов недолгое время пробыл в «диких степях Забайкалья» у барона Унгерна. Последний претил ему всем своим образом. Поэт не терпел диктаторов: будь то равно – барон или, позже, Сталин, Гитлер, либо другие, помельче. Вот какие эпико-сказовые безжалостные строки оставил он на века о «чёрном даурском бароне»:
"К оврагу,
где травы рыжели от крови,
где смерть опрокинула трупы на склон,
папаху надвинув на самые брови,
на чёрном коне подъезжает барон.
Он спустится шагом к изрубленным трупам,
и смотрит им в лица,
склоняясь с седла -
и прядает конь, оседающий крупом,
и в пене испуга его удила.
И яростью,
бредом её истомяся,
кавказский клинок,
- он уже обнажен, -
в гниющее
красноармейское мясо,
повиснув к земле,
погружает барон.
Скакун обезумел,
не слушает шпор он,
выносит на гребень,
весь в лунном огне -
испуганный шумом,
проснувшийся ворон
закаркает хрипло на чёрной сосне.
И каркает ворон,
и слушает всадник,
и льдисто светлеет худое лицо.
Чем возгласы птицы звучат безотрадней,
тем,
сжавшее сердце,
слабеет кольцо.
Глаза засветились.
В тревожном их блеске -
две крошечных искры.
два тонких луча...
Но нынче,
вернувшись из страшной поездки,
барон приказал:
Позовите врача!
И лекарю,
мутной тоскою оборон,
(шаги и бряцание шпор в тишине),
отрывисто бросил:
Хворает мой ворон:
увидев меня,
не закаркал он мне!
Ты будешь лечить его,
если ж последней
отрады лишусь - посчитаюсь с тобой!..
Врач вышел безмолвно,
и тут же в передней,
руками развёл и покончил с собой".
После Унгерна дороги отступления привели поэта на Дальний Восток, где в отчаянной последней защите генерал Дитерихс собирал Земский собор Приамурья. Этот собор стал наказом, заветом Белого Дела потомкам, будущему Отечеству. Собор призвал: когда Россия станет свободной от большевизма, соединиться всем людям земли и восстановить Православную Державу Царства…
Дальневосточная республика пала. Несмелов не ушёл в эмиграцию. Во Владивостоке встал на учёт ГПУ как бывший офицер. А в двадцать четвёртом году, точно так же, как и герой «Тихого Дона» Григорий Мелехов, он узнаёт о том, что готовится его казнь. И уходит тайгой, сопками, обжигающими от зноя полями гаоляна в Маньчжурию, к русскому Харбину.
"Пусть дней не мало вместе пройдено,
Но вот не нужен я и чужд,
Ведь вы же женщина - о Родина! -
И, следовательно, к чему ж
Всё то, что сердцем в злобе брошено,
Что высказано сгоряча:
Мы расстаёмся по-хорошему,
Чтоб никогда не докучать
Друг другу больше. Всё, что нажито,
Оставлю вам, долги простив -
Все эти пастбища и пажити,
А мне - просторы и пути,
Да ваш язык. Не знаю лучшего
Для сквернословий и молитв,
Он, изумительный - от Тютчева
До Маяковского велик.
Но комплименты здесь уместны ли -
Лишь вежливость, лишь холодок
Усмешки, - выдержка чудесная
Вот этих выверенных строк.
Иду. Над порослью - вечернее
Пустое небо цвета льда.
И вот со вздохом облегчения:
Прощайте, знаю: Навсегда".
С той поры Несмелов жил в Харбине. Прожил там двадцать один год. Этот русский, основанный ещё в начале века, город рос на глазах. Сюда стекались эмигранты. Здесь была, как и во всём Зарубежье, полная взаимовыручка – иначе не выживешь. Поначалу брались за самую тяжёлую чёрную работу. На последние копейки строили Дом Милосердия для одиноких больных и немощных, церковь с монашеской общиной при нём. Обживались быстро. И вскоре трудами этих деятельных, образованных и талантливых людей вырос новый, по сути, город. Сложилось общество с богатой культурой, издательствами и театрами, институтами. Здесь издавались книжки Несмелова, отсюда держали связь со всем миром. Жизнь шла почти обычно: любили, сходились, складывали семьи.
АННЕ
"За вечера в подвижнической схиме,
За тишину, прильнувшую к крыльцу..,
За чистоту. За ласковое имя,
За вытканное пальцами твоими
Прикосновенье к моему лицу.
За скупость слов. За клятвенную тяжесть
Их, поднимаемых с глубин души.
За щедрость глаз, которые как чаши,
Как нежность подносящие ковши.
За слабость рук. За мужество. За мнимость
Неотвратимостей отвергнутых.
И за Неповторяемую неповторимость
Игры без декламаторства и грима
С финалом, вдохновенным, как гроза".
Как отличается эта любовная лирика от тогдашних революционных установок «человекогвоздей» на Родине с их «любовь – не вздохи на скамейке», а нечто вроде «стакана воды» для утоления жажды в перерывах между созидательным трудом! Ну, а сегодняшние большевики творчески развили те их взгляды на любовь уже до секса на офисных столах, дабы вообще не терять времени-денег попусту…
Но вернёмся в Харбин. Уже скоро, и как всегда «внезапно», вырастали дети, разъезжались. Это отдавалось особой болью.
Пять рукопожатий
"Ты пришел ко мне проститься. Обнял.
Заглянул в глаза, сказал: "Пора!"
В наше время в возрасте подобном
Ехали кадеты в юнкера.
Но не в Константиновское, милый,
Едешь ты. Великий океан
Тысячами простирает мили
До лесов Канады, до полян
В тех лесах, до города большого,
Где - окончен университет! -
Потеряем мальчика родного
В иностранце двадцати трёх лет.
Кто осудит? Вологдам и Бийскам
Верность сердца стоит ли хранить?..
Даже думать станешь по-английски,
По-чужому плакать и любить.
Мы - не то! Куда б не выгружала
Буря волчью костромскую рать,
Все же нас и Дурову, пожалуй,
В англичан не выдрессировать.
Пять рукопожатий за неделю,
Разлетится столько юных стай!..
Мы - умрём, а молодняк поделят
Франция, Америка, Китай".
Когда-то это происходило в Харбине и всём Зарубежье по ряду понятных житейских условий. А сегодня в России, никак не могущей разобраться в своём прошлом и самой себе России, не дожили ль мы до более печального из-за всё того же длящегося безвольного падения в ничтожество? И не гложет ли многих и многих уже в собственном пока ещё доме тоска-ностальгия по нему?
В СОЧЕЛЬНИК
"Нынче ветер с востока на запад,
И по мёрзлой маньчжурской земле
Начинает позёмка царапать
И бежит, исчезая во мгле.
С этим ветром, холодным и колким,
Что в окно начинает стучать,-
К зауральским серебряным ёлкам
Хорошо бы сегодня умчать.
Над российским простором промчаться,
Рассекая метельную высь,
Над какой-нибудь Вяткой иль Гжатском,
Над родною Москвой пронестись.
И в рождественский вечер послушать
Трепетание сердца страны,
Заглянуть в непокорную душу,
В роковые её глубины.
Родников её недруг не выскреб –
Не в глуши ли болот и лесов
Загораются первые искры
Затаённых до сроков скитов,
Как в татарщину, в годы глухие,
Как в те тёмные годы, когда
В дыме битв зачиналась Россия,
Собирала свои города.
Нелюдима она, невидима.
Тёмный бор замыкает кольцо.
Закрывает бесстрастная схима
Молодое, худое лицо.
Но и ныне, как прежде, когда-то,
Не осилить Россию беде.
И запавшие очи подняты
К золотой Вифлеемской звезде".
Исходя из этих строк, можно подумать, что Несмелов склонен был к известной поэтической идеализации настоящего и желанного будущего. Это не так. Он понимал, что за это будущее в любом случае нужно будет биться, но уже иным поколениям. Он чётко понимал, в каком состоянии находится на Родине масса людей. И своей поэзией оставлял как бы путеводную ниточку лучшим к тому, что было убито, изгнано, оболгано и забыто. Хотя не уклонялся и от жестоких строк, приложимых к состоянию и в нынешней России:
Мы
"Голодному камень - привычная доля.
Во лжи родились мы. Смеёмся от боли.
Глаза застилает гнилая короста.
Стоять на коленях удобно и просто.
Бессильные слёзы у нас в горле комом.
И только для слабых нам правда знакома.
Течёт вместо крови по жилам сивуха.
Дыша перегаром, мы сильные духом.
Голодному - хлеба, а вольному - воля!
Рождённые ползать - завидная доля"!
Жизнь на чужбине простой не бывает. В Харбине же при японской оккупации она усложнилась ещё. Японцы, с их воспитанной ненавистью к России, то стреляли по окнам, то закидывали гранаты. Затем их командование решило глумиться над русской верой. Против церкви установили своего идола Аматерасу и требовали от христиан перед службой кланяться прежде их божку. Русские отказывались. Тогда начались пытки, убийства. Но община держалась твёрдо. И вскоре случилось с язычниками то, что случалось в истории христианства, особенно – первых веков, множество раз.
Однажды иеромонах по имени Филарет отказался кланяться на площади истукану. Японские военные начали пытку. Жгли металлом, пропускали электроток, резали ножом, изуродовали глаз и лицо. А монах в молитве просил Господа Иисуса Христа дать ему сил вынести всё это. Он молился и совершенно не чувствовал боли. Поражённые палачи оставили его – до их сознания дошло, что простой человеческой волей такие истязания вынести невозможно и против них действует Сила высшая. Следом божок с площади был убран и принуждения закончились.
А вот красные подпольщики, партизаны-китайцы нападать продолжали. Для них эмигранты являлись врагами классовыми. К тому же, над северной границей нависали советские войска. Жизнь становилась всё более шаткой, едва не призрачной. Ну, а когда наступление началось, стало очевидно: бытие русского Харбина, его мира доживает последние дни. Эмигранты вновь - в который раз! - укладывали багаж. Арсений же Несмелов решил остаться. Одинокому поэту отступать было некуда и незачем. Может быть, чувствовал исполненность смысла своей жизни… Ему было тогда пятьдесят шесть лет.
Да, с этими судьбами, с этими поэтами и писателями уходила эпоха. И какая эпоха!.. Странно, что официальное литературоведение не спешит признать за ними их первостепенного места, а выделяет в какой-то «эмигрантский подотдел», будто они сидели на островке и вели отгороженную экзотичную жизнь аборигенов, будто не выразили они всю ту же эпоху. Выразили! И выразили так, что без этих книг невозможно постигать её объективно. И принадлежат эти авторы с их героями всё к тому же общему поколению, давно получившему историческое имя - «потерянное». Герои книг Хемингуэя и Ремарка, Олдингтона и Дос Пассоса, наши Григорий Мелехов, Юрий Живаго и Турбины, лирические герои Несмелова, Савина, Туроверова и Терапиано и ещё многих и многих, все они проделали общий путь с эпохой, но каждый по-своему. У наших героев и авторов этот путь оказался куда трагичней, а веру свою они сберегли.
"Лбом мы прошибали океаны
Волн слепящих и слепой тайги:
В жребий отщепенства окаянный
Заковал нас Рок, а не враги.
Мы плечами поднимали подвиг,
Только сердце было наш домкрат;
Мы не знали, что такое отдых
В раззолоченном венце наград.
Много нас рассеяно по свету,
Отоснившихся уже врагу;
Мы - лишь тема, милая поэту,
Мы - лишь след на тающем снегу.
Победителя, конечно, судят,
Только побеждённый не судим,
И в грядущем мы одеты будем
Ореолом славы золотым.
И кричу, строфу восторгом скомкав,
Зоркий, злой и цепкий, как репей:
- Как торнадо, захлестнёт потомков
Дерзкий ветер наших эпопей"!
Об Арсении Несмелове осталось рассказать последнее предание. Духом своим оно едва ль не из древнеримской ранней героики.
Советские войска заняли Харбин. Поэт знал, что имя его – в списке опаснейших врагов. Он ждал ареста. Надел форму, написал записку. Налил в рюмку водки и поставил на стол, прямо на эту записку. Когда пришли его забирать, он сдал оружие со словами: «Советскому офицеру от русского офицера». Указал взглядом на записку. Поднял рюмку и выпил.
В записке было: «Расстреляйте меня на рассвете». Советский офицер, прочитав, ответил: «Расстрелять на рассвете не обещаю, но о вашем желании доложу обязательно».
Выдающийся русский поэт, офицер Арсений Несмелов-Митропольский погиб в конце сорок пятого года в тюрьме под Владивостоком. Подробности гибели неизвестны. Отчего-то хочется думать - его последнее желание было исполнено.
«Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда»…




 Могильники Чернобыля: радиоактивные отходы зоны отчуждения Где находится техника чернобыля
Могильники Чернобыля: радиоактивные отходы зоны отчуждения Где находится техника чернобыля Девочка заговорила на иностранном языке после комы
Девочка заговорила на иностранном языке после комы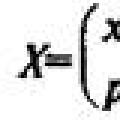 Сравнение законов распределения вероятностей
Сравнение законов распределения вероятностей